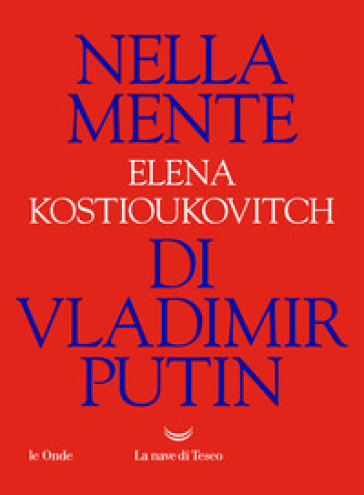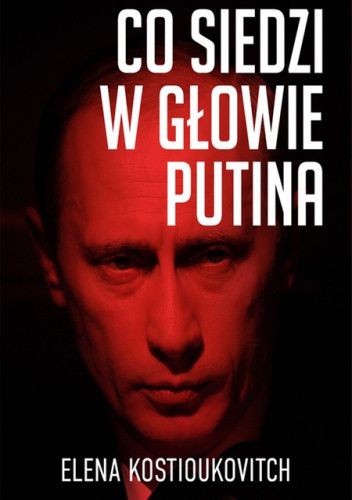ВИТТОРИО СЕРЕНИ (1913-1983)
ЗИМА
но, обернувшись, ты видишь
тучи на сером,
бьют родники за твоею спиною,
горы во льдах синеют.
Мутная всплеснула волна,
окликнув тебя, — но сейчас
коркой льда покрыта она,
потому что ты, обернувшись,
видишь прелесть
нагой зимы.
Гармоничные формы высятся в
неподвижности, в стыни,
и твой порыв неосознан,
будто кто-то тебя успокоил,
ободрив улыбкою мягкой,
и гудок твоего парохода
слышен там, где густеют туманы.
1935
РУКИ
Эти руки, твоя защита,
на лицо мне опустят вечер.
когда медленно их отводишь —
город видится огненною аркой.
Над грядущей моей дремотой
будут брезжить полоски света.
И я навсегда утрачу
этот привкус земли и ветра,
когда ты руки отнимешь.
1935
ТУМАН
Здесь уличный поток
дрожит нетерпеливо,
уткнувшись в светофор.
Здесь, где я прохожу,
толпится гуще город,
чтобы в дыханьи домен раствориться.
Хоть сердце подало бы голос
сквозь непрерывный грохот
заводов, наковален...
Погода клонится к зиме.
Я прохожу вдоль запотевших улиц.
В эпоху ласковых лисиц
их осень кутала в зеленый войлок,
аллеи голубели после ливня.
Сигнал мигнет — и вновь свободен путь,
и год замешкается в этих переулках,
когда из-за угла минутный солнца луч
блеснет, как куст мимоз
в белейшем из туманов.
1937
.......
Вот меркнут голоса. Мои друзья
так далеки,
что вопль и даже шепот
их не настигнут.
Но через года
опять твоя печальная улыбка
сияет, как озерная вода,
что пожирает рыбаков и лодки,
но красит наши утра в синий цвет.
1940
ДЕВУШКА ИЗ АФИН
Весь день как единый вздох,
и Аттика вся как тень.
Так молния бежит по мутным
осколкам беглого стекла,
как сеет свет лицо твое
из нимба, который ты зажгла
перед иконой вечерней.
Но здесь,
здесь, где все реже падают оземь
жертвы последней охоты,
в заросли, вьющиеся вдоль границы,
здесь, о печаль, чистейшее в мире
гибнет слогов твоих звучанье,
размытой кириллицей цепенеет.
И ты: как темнеешь ты постепенно,
не можешь остаться, все: потерялась
в гуле последнего виадука.
Скоро я буду - изумленный путник.
Брошусь на ощупь в гущу тумана.
Бессильные, ленивые слова.
Как из стручка горошины, за нотой
другая нота катится из хора —
огрызки дней утраченных. Кайдари,
долина горько-сладостных олив
в медлительных моих воспоминаньях,
растерянная стайка кораблей
во власти сумрачных ветров Пирея.
И все, что привлекало взор и слух,
в туман ушло и вместе с ним пропало.
...........................................
Как резко повернулось колесо:
вот дружественный флот проходит в море.
Нескоро зреет плод тоски и горя,
и вкус его не всем знаком, но ты
его вкусила, деспинис.
Кто спит в снегу высоком
среди дорогих могил.
Ты встанешь с мертвыми, скажешь:
— Я хочу знамя, чтобы страданьем,
мукой моей оно бы звенело,
чтобы сияло моими слезами,
хочу, чтоб в предместиях пели бы гимн
тот, что меня угнетал, и он
вернулся бы юной песней моей;
тревога, те ночи избороздив,
только б сейчас воротилась эхом
страха, и жалости, и надежды.
Так мы навстречу шли издалека.
И иногда мне кажется, как будто
мы вновь идем с тобою, деспинис,
и солнце светит даже побежденным
в вечнозеленых Аттики садах.
И образ твой поныне зеленеет.
Эшелон Афины-Местре, осень 1942
Северная Африка, осень 1944
АЛЖИР
Был ты сначала моей бедою,
и я, взглянув в сухие ладони,
на трещины от песков горючих,
себе не искал уж иной печали.
О, как меня ты перерываешь,
перемежающаяся лихорадка.
Я по тебе изнывал, а ныне
ты надо мною, в зеркале вечном,
мечешься, будто в гавани черной
вспыхнул рассвет огней корабельных