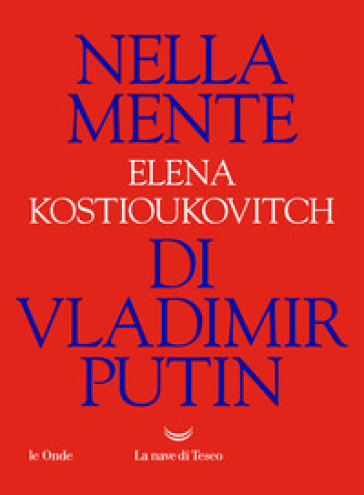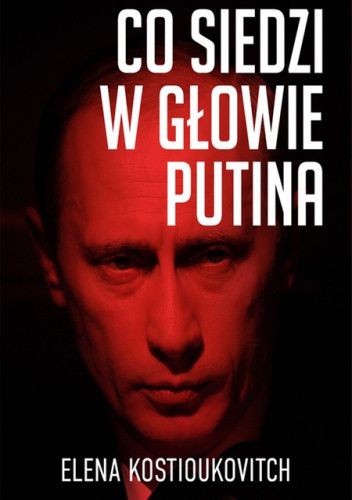РОККО СКОТЕЛЛАРО (1923-1953)
ЗВОНЯТ К ЗАУТРЕНЕ
Еще не светает,
когда это шествие в путь выступает.
Одна за другой
ползут со жнецами жнейки,
сползаясь с той самой звездой,
что светит в конце изворотливой улицы-змейки.
Так в долгой кишке моего переулка
по камню копыта мулов
заутреню отбивают.
МОЙ ОТЕЦ
Отец клиенту мерил ногу правую,
по мерке той тачал обувку справную
и продавал товар на пыльных ярмарках.
Как бутерброд, он разрезал подметку
своим наточенным сапожным ножиком,
и выпустил кишки какому-то подонку
однажды в темноте под мелким дождиком.
Но всем нам лучше эту ночь забыть,
с отцом напрасно было говорить,
он ничего не рассказал бы.
Мой брат всю жизнь торчал в хлеву. Он был убогий.
А мне отец велел писать
бумагу, чтоб не брали с нас налоги.
Мы знали: нож наточен у отца
на сборщика налогов.
И сборщик знал, и он отца не трогал.
Но мой отец не мог угомониться.
Он подучил приятеля, и тот
послушался, дурак,
и снес в контору свой верстак
с записочкой: Кретины,
сами гните спины".
Приятеля за это посадили.
Но и отца как будто подменили.
С тех пор он замолчал,
к обедне стал ходить по воскресеньям,
епископского ждал благословенья,
"Аминь" на "Аллилуйя" отвечал.
В широкий плащ закутавшись устало,
на площади сидел, в тени портала,
там, где друзья по вечерам болтали,
и зубоскалили, и хохотали.
Он умер, как всегда хотел, — внезапно,
ни с чем не примирившись в этом мире.
Когда сердечный приступ начался,
он руку матери нашарил, крепко стиснул.
И мать отпрянула и поняла,
на губы глянув искривленные,
на них прочла
проклятья непроизнесенные.
А сборщик податей сказал: "Вот был храбрец!"
И все оплакали его конец.
О МАТЕРИ
Скажи, а ты б такую мать любил,
которая баюкает слезами
и "Зингера" постылым стукотаньем,
приданые строча и подрубая
и обрабатывая голенища
высоких деревенских башмаков?
Как я отчаянно вцепился в юбку —
цыпленок, купленный из-под наседки!
Но ты меня швырнула в жизнь,
велела жить открыв лицо, не прячась.
А на моем веснушчатом лице
остался виден след твоих желаний
в те месяцы, что ты меня носила...
Теперь ты хочешь от меня
любви, которой дать я не умею.
Живем бок о бок, точно не родня,
а два завистника соседа,
и вечно ты напряжена,
пытаешься урвать крупицы ласки,
но ласкам ты меня не научила, мама.
Я так немного дней тебя любил!
Тогда мой младший брат на свет родился,
последний плод любви твоей с отцом.
Потом вы продали его
бездетным двум супругам,
недалеко, в соседнюю деревню.
Ну, а в те дни он был еще в семье.
Ты нас в одну кроватку положила
и называла нас обоих Рокко.
ГОРНЫЕ ФИАЛКИ ДЛЯ БОСОНОГИХ ДЕТЕЙ
Пробился свежий лист на юном миндале,
с обросших стен вода струится ключевая,
и ослик, мягкую тропинку выбирая,
легко трусит по мартовской земле.
Над плавными скрипучими возами
царят крестьянки с черными-пречерными глазами.
Младенец март проснулся, улыбаясь и играя.
Теперь забудешь ты о месяцах зимы,
которую провел в своей каморке, скорчась,
перебирая километры четок,
согреть пытаясь руки
и обжигаясь над огнем жаровни.
Теперь повсюду жив весенний дух.
Коней замучал овод, в стойлах тучи мух,
и выводок мальчишек босоногих и задорных
отправился на штурм фиалок горных.
УЖИН
Пусть теплым вечер будет, и к вину каштаны,
сойдутся несколько друзей,
и каждый что-то о себе расскажет,
и станут все родней.
Башмачник занят был весь божий день
своей работой. К вечеру снял фартук,
укутал им верстак и инструменты,
сказал жене с детьми: пройдусь, а вы ложитесь спать.
А каменщик пришел со стройки прямо,
и на его щеках налипли брызги мела.
Портной иголку спрятать не успел,
конторщик не успел свести чернила с пальцев.
Так и пришли.
Еще пришли крестьяне, пахнущие хлевом.
Уже смеркалось. Я захлопнул книгу
и всем сказал: ну разве в книгах жизнь?
И мы сразились в мору.
Да так, что плотника жена и дочка,
к столу подав вина,
сказали: грех глядеть, совсем как дети.
К вину мы вытащили из карманов
кто ломоть хлеба, кто лучок, кто перчик,
а кто олив пригоршню. А конторщик —
омлет, завернутый в лист из гроссбуха.
Всю божью ночь душа хотела петь:
Любовь! Любовь! И заходилось сердце.
А плотниковы дочка и жена,
спать уходя, сказали:
ну, верно, это до утра.
ТЫ НЕ ДАЕШЬ НАМ СПАТЬ, ПРОКЛЯТАЯ КУКУШКА
Вдоль отрогов и бурых холмов
новый цвет — рыжина проступает.
То сентябрь о себе извещает,
друг моих деревушек и сел.
Наши женщины слышат о нем
от сверчков: те, спасаясь от ливня,
мчатся с поля, где лето прожили счастливо,
и стрекочут, колотятся в дом.
В доме — низки насушенных фиг
и салатных зеленых томатов,
кучи сбитых миндальных орехов,
семенная пшеница в мешках...
Отчего же ты спать не даешь
нам усталым, кукушка ты злая,
и куда нас зовешь?
Завтра снова шаги зазвучат
по тропинкам убитым,
мы зарей на работу пойдем
вдоль ручьев порыжелых,
ну а ветер пускай теребит
наши куртки, висящие дома.
А ЧТО НАМ ДЕЛАТЬ?
На нас кричали хозяева и угрожали крестом,
винили во всем, что случается,
также и в том,
что осенью часть построек сползает по глине в овраг.
Так что же нам делать? Как прежде, в молчанье брести по утрам
на площадь привычную — нас покупают там,
— а вечером возвращаться колонной, не смея замедлить шаг?
Охранники наш растянувшийся гурт сопровождают верхами.
Но к ночи, мы знаем, они прикорнут вместе с нами
под небом открытым, на травке, в овечьем загоне.
Мы знаем запреты. Нам запрещается петь и книги, газеты читать.
Как посметь читать о себе, о добре, справедливом законе?
В эпохи былые, когда кровавым огнем выжигали предместья
разгневанные феодалы, владельцы поместий,
мы были среди пострадавших.
Мы дети отцов, железом оков бряцавших.
Что делать нам?
Поверить ли вам,
когда вы именуете нас братьями во Христе?
Но ваши братья не те, и церкви не те.
На нас вы коситесь из вашей семейной часовни.
Оставьте-ка лучше этот надменный вид,
оставьте угрозы, вспомнив:
бывает, что самое тихое стадо овчарню разорит
и страшной волной понесется на поиски корма.
Тогда вы узнаете нашу силу и злость
в тот день, когда мы из предместий
войною пойдем на жестоких владельцев поместий,
неслыханной страшной войною.
Смирите тогда ваше стадо тупое!
Ну а пока что, в загоне лежа, тихонечко мы поем:
вот вам предупреждение,
позаботьтесь о вашем спасении,
о спасенье своем.
Там, куда вы гоните нас,
слева пропасть, справа откос.
А мы тихие бедные овечки,
мы привыкли слушаться вас...
ЧЕРНАЯ ЛУЖА ВОСЕМНАДЦАТОГО АПРЕЛЯ
Как белеют листовки, выделяясь на черной грязи!
На облезлом заборе
кто-то добренький нам луну изобразил.
Позабыто все горе
в этот день, угощает хозяин, амбар распахнул,
в этот день, как на пасху, у нас
и пальба, и гирлянды.
Но окончен тот день,
и окончен, окончен тот бал,
стих радостный гул.
Не зови на подмогу, попавши в беду,
никого нету рядом.
Против черной заразы
нам никто не поможет,
и от черного глаза
нам никто не поможет,
все ворота забиты,
крепостные канавы глубоко прорыты.
И лохмотья свои — им сносу нет —
протаскаем еще две тысячи лет...
Ловко нас обманули, толпу голодранцев!
Они думают, что расправились с нами!
Но скоро мы кинемся на хозяев
и маски с них сорвем зубами.
СЛОМАЛИ ЖИЗНЬ ТВОЮ, КАК СПЕЛЫЙ КОЛОС
Убитому юноше, моему другу
Увидев смерть в глаза, он нам сказал:
не оставляйте здесь меня, друзья,
как жестко голове на этом камне,
как пыльно на обочине шоссе!
Отсюда видно очень мало :
как рейсовый автобус обгоняет
прицеп, груженный углем, — вот и все.
В обочину, поросшую травой,
так неудобно упираться головой,
не оставляйте на ночь в морге,
лицо не накрывайте простыней!
Ах, как бы сладко я уснул,
когда бы два жандарма не несли тут караул!
Не знаю, кто бы мог меня убить.
Нельзя ли отпустить меня домой?
Ведь все крестьяне нашего села
ушли, беседуя между собой.
Нельзя ли меня отнести в кровать,
где умерла моя мать?
Рассвета и расследования
устал я ждать.
А утром вам скот придется согнать
с кровавой травы. На место происшествия
прибудет инспектор. Начнется следствие.
Где была голова, положат камень.
О, как внезапно смерть нас разлучила!
За что меня косой своей скосила?
Что я ей сделал?
Когда, бывало, рожь заколосится
и подоспеет на полях пшеница,
мы на уборке хлеба
песни веселые пели.
Что будет делать отец мой?
Верно, умрет от печали и боли.
Куда одному ему, старому, слабому,
убрать овсяное поле!