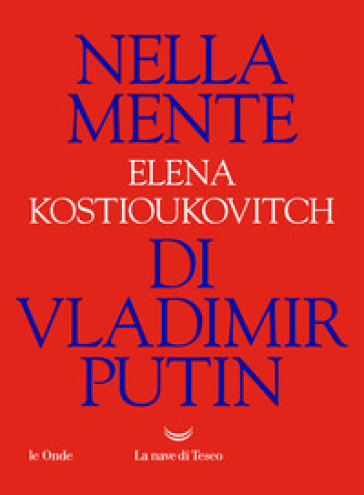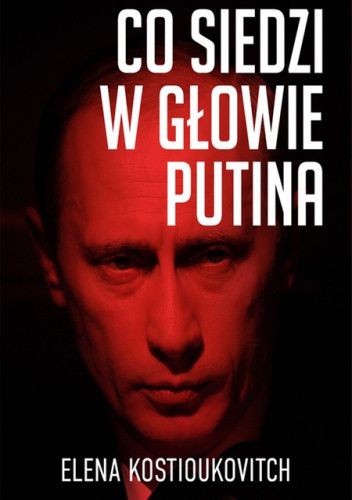РОБЕРТО РОВЕРСИ (род. в 1923)
УЖАСНО БЫТЬ ЗАБЫТЫМ
Трава желта от надгробий. Желты от солнца
кладбищенские кипарисы и оливы.
И в годы мира, и в годы жизни счастливой
не ведают мира те, кто здесь покоится.
Из-под земли выпростав, тянут руки,
искореженные работой.
Матери, трудно рожавшие рожденных трудиться детей,
безропотно жизнь отдавшие починке старых сетей,
и мужья их, уставшие, как воздух октябрьских дней.
Годами рожденья и смерти к доске, как гвоздями, прибиты,
знают они: нет страдания,
обошедшего их,
знают: не прожито дня без-рыдания,
жизнь им тяжелым помнится сном,
но тоскуют они об одном:
о забвенье друзей и родных,
о том, что они забыты.
Совсем не то у богатых:
их имена ты можешь прочесть на бортах
красавиц яхт, ожидающих ветра в портах,
на алых бортах покатых.
Пока паруса их свернуты. Но чуть разразится весна,
и яхты эти опомнятся от горделивого сна
и кинутся в теплые воды, уносящие в Африку их.
КОГДА ВЗОРВАЛИ ХИРОСИМУ
Когда пылала Хиросима,
плавились в огне последние слова,
и кости, рассыпаясь пылью,
к издохшим небесам вопили,
и разучилась зеленеть трава,
и высохла листва —
тогда навеки умерла природа,
все, чем была она жива,
погибло с гибелью народа.
Колонны танков, растоптав границы —
не век колючей проволоке виться, —
сползаются к победе. Все устали.
Стонали люди: только бы напиться,
омыть растрескавшиеся ладони.
Они устали в черных кучах рыться,
в обломках ужаса, в осколках стали.
Дождавшись солнца, в каменной могиле
мы радостно войну похоронили,
всю, до последнего солдата.
Где Хиросима умерла когда-то,
в Японии построен новый город.
Но жители его не любят яркий свет,
от солнца прячутся в подземных норах.
А тут, в Италии, так солнечно, счастливо,
мы так гордимся нашим мрамором и миром
и нашими дежурными речами —
они-то защитят от всех несчастий!
Мы знаем: все, что происходит,
куда-то исчезает, будто камень,
упавший в море с голого откоса
в краю, опустошенном лихорадкой.
Никто о нем не вспомнит, и бесстрастный
надмирный взор не омрачится горем.
Никто не вспомнит мертвых.
Мы много лет живем уютно,
без памяти и без любви.
Надежде мы тупым ножом вспороли брюхо.
Кто видел, как она барахталась в крови?
МОГИЛА КЕССЕЛЬРИНГА
За синею стеною небосвода
так далека Флоренция сейчас,
там над сухой травой цепочки кипарисов
застыли в этот раскаленный час
на каменной земле тосканского народа.
А здесь, вдали от наших Апеннин,
в тумане серых утр, во влажности низин,
в сиянии замедленного солнца,
относит ветер эхо тракторов,
перепелиный гул, дыхание паров
и отработанную воду от завода.
Там, за рекой, развалины домов,
как памяти обугленные крылья,
чуть не вопят от черного бессилья,
но крики тонут в тишине морской
за Рейном. Виноградник, съеденный тоской,
корячится за изгородью голой,
сухие корни выставив. Поселок
пуст изнутри, как выкрошенный хлеб.
Когда война была, просторы сонных этих мест
чужою речью огласились.
Здесь в пыль сердца людей катились,
забрызгивая кровью все окрест.
Теперь зубовный скрежет отзвучал.
Убитые укрыты травкой жесткой.
Стена забелена известкой.
В каком-то рву закопан пучеглазый генерал.
РИМСКИЙ ДУХ ВЗЫСКУЕТ
Наша карта не бита. Жизнь еще не разбита.
Сохранилось дыхание, прорывается смех.
Что с того нам, что совесть пуста, как гнилой орех?
Кто сказал, будто жизнь в самом деле пропала?
Это римский взыскует дух. В суете карнавала
погибает Венеция — что нам в заботах тех?
Кровь и душа Италии, разве мы помним о том,
как все эти годы работали молотком,
гвозди в сердца распятых тщательно забивали?
На ваши любые упреки у нас заготовлен ответ:
а вы бы чем занимались в условиях тех лет?
Смотрите, мы живы остались — разве этого мало?
Мы своему палачу не подавали секиру,
не сдохли с тоски, не устали дивиться миру —
ну разве зазря невинные жертвы кровь проливали?
Но земля изменилась. Когда я пишу эти строки,
с неба льются потоки
раскаленной отравы. Природа меняет свой цвет.
Хляби моря вспухают. Теперь уж спасения нет,
и возможности нет отсидеться в сторонке,
отползти от всемирной воронки
на винтовочный выстрел. Предчувствуя смерть, человек,
чтоб на медленном страхе не тлеть, к сумасшествию мчится.
Своевременно спятив, спасешься в наш век.
Ну, а может, поможет последнее мысли усилье? Да, я вижу просвет,
Да, я знаю секрет, человечества вечный завет.
Речь идет о любви. Это очень смешно. Я согласен.
Это очень похоже на хитрый ответ:
"За любезность спасибо. К вам в гости приду
только в день, когда римские стены падут".
Только знайте: удавка готова, и сдохнем все разом,
если нас не спасут терпенье и разум.
СТАРИК
Угрюмый, злоязыкий дед,
до черноты прожаренный годами
(трех жен заколотил он в ящик),
на камне сидя, отбивает серп.
Босой ногой уперся в пыльную дорогу.
О чем он думает, расскажет только богу.
Рассрочку выплатил он в октябре
за трактор (фарами мигает на участке),
а в первый снег разделал кабана
на колбасу. Убитый, чисто мытый
кабан посоленный лежал на лавке и глядел.
На зимнем очаге большой котел кипел.
Зимой окошко напрочь замерзает,
не всходит солнце, и деревня вымирает.
Он в доме как султан восточный жил,
и двадцать человек детей родил,
и все они рассыпались по свету.
Две дочки только с ним,
а те в чужих краях хлебнули горя
(да кто их помнит, тех...).
Еще остались трое сыновей
(они-то не уйдут от доброй пашни
и не забудут, как в побегах льна
под тонкой кожей набухают мышцы).
Заря алеет, как свиное сердце.
Пора и за работу.
ПЕРВЫЙ СЕНОКОС
Начинаются сенокосы,
когда ветер крадется в горы
Салинелло, гудит над лугом,
шевеля тростниковые косы.
Травы пахнут долгой дорогой
босоногой, прелой соломой,
пахнут медом, норой кротовьей
и опавшей листвой прошлогодней,
и опавшими лепестками.
Как прибой, травы бормочут.
А мальчишки швыряют куртки
в холодок у края оврага,
а мальчишки звонко хохочут.
Раздвигает коса осторожно
травянистую гриву земли.
За лугами луга зеленеют вдали,
и следы удиравшей зайчихи
не затерлись в дорожной пыли.
Сколько там, за межою, земель
с затерявшимися домами,
сколько почвы, израненной льдами,
молодеющей каждый апрель!
Сколько в почве корней, а над почвой стволов,
и в траве на лугах родников,
и пшеницы в полях —
вдалеке от морских горделивых валов.
Только зной, только спины косцов,
и в тени у оврага брошены куртки ребят.
ЗАВЕРШЕНИЕ И КОНЕЦ ДНЯ
Что гонит нас домой? Желанье ли вернуться
навеки, как хотят разбитые суда
застрять в порту, там встретить шторм последний?
Или боязнь покинуть гавань навсегда,
уплыть и не суметь домой вернуться?
Флоренция зовет нас, Пратолино,
ущелья гор, ущелья городов,
развалины сожженных замков, света
лучи слепящие и мрак кошмаров.
Бредем. Что, если кончится земля,
осмыслим ли весь ужас мысли этой?
Что, если вправду трубный глас-звонок-клаксон
услышим у дверей однажды в час рассвета?
Вдоль августом прожаренных камней
цепочка проползла автомобилей,
шурша, как металлический удав.
Всю ночь плыву в потемках горных трав,
туннель ищу — и свет в конце туннеля.
Он озаряет гиблый мрак земли.
Вот огоньки — пусть редкие пока
и слабые, как лампа светляка,
но это наши огоньки вдали!
Вот женщина, как тень. Звучит родной язык
приветствия. Итак, я снова у своих,
смертельно раненный, к своей земле приник,
обороняю фланг своих позиций.
Отчет о дальних странствиях моих
военной сводкой, видно, завершится.