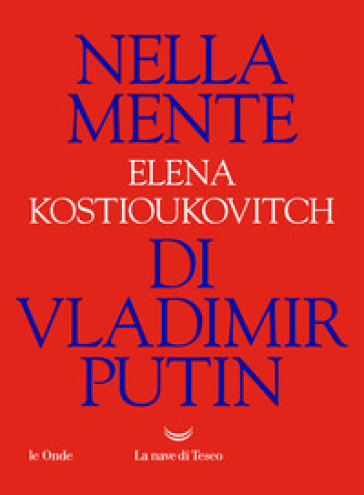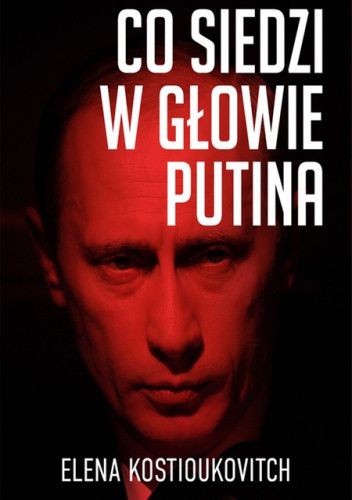Elena Kostioukovich wrote the preface for the Russian edition of Vargas Llosa's 'The War of the End of the World'
Предисловие [ИТертерян] и Е. Костюкович
Кровавая роса в сертанах
ПАДАЙ РОСОЮ В ЛИЦО СУПОСТАТА,
ПАДАЙ РОСОЮ, ОТВЕРЖЕННЫХ КРОВЬ,
ВЫШЕ, ВЫШЕ, ЗАРЕВО МЕСТИ,
ВЫШЕ, ВЫШЕ, КРАСНАЯ НОВЬ
А. Кастро Алвес (1861)
перевод Инны Тыняновой
В центральных и северо-восточных районах бразильских штатов Минас-Жерайс, Баия, Сеара, вдали от пышно цветущего побережья, тянутся сертаны — степь. Это край скотоводческих латифундий — фазенд, край вакейро — погонщиков скота. Обширны и изменчивы сертаны: то зеленые, с возвышающимися кущами стройных пальм-бурити, с густыми зарослями тропического леса; то засушливые, солончаковые, поросшие чахлым и колючим кустарником — каатингой. Так же изменчива и жизнь сертанца, будь он владелец маленького пастбища, или арендатор на большой фазенде, или, что чаще всего, бедняк, нанимающийся перегонять многотысячные стада. Раз в несколько лет сертаны поражает засуха, выжигающая все на сотни километров. Крохотные наделы не позволяют запастись зерном на черный день. И вот во время засухи, когда мрет скот и горят посевы, люди едят коренья, часто ядовитые, а когда высыхает вода во всех ручьях и колодцах, начинается страшный исход из сертанов. Бросив дом и имущество, с детьми на руках сертанцы бредут сотни километров по выжженной степи к побережью, где надеются найти хлеб и воду. Однажды во время такой засухи трупы умерших от голода «покрывали все обочины дорог от самых сертанов до моря» (Кастро Ж. де. География голода. М., 1950, с. 180).
Еще совсем недавно сертаны именовались «ничейная земля». За каждый клочок пастбища шла ежедневная и отчаянная война. Со времен колонизации Бразилии и до середины XX века эти степи оставались особым миром, где царило неписаное право — право сильного, дерзкого и хитрого. Главной фигурой был «полковник»—крупный помещик, полновластный хозяин не только у себя на фазенде, но и во всей округе. На службе у таких «полковников» состояли целые отряды наемных убийц, которые разоряли мелких землевладельцев, сгоняли их с земли. Разоренные жа-гунсо часто пополняли собой шайки степных разбойников— кангасейро. В народе жили легенды о благородных кангасейро, наказывавших богатых и помогавших бедным, но по существу кангасейро были обычными грабителями, насильниками и мародерами. Жизнь в сертанах требовала от каждого умения постоять за себя, и не случайно грозился герой романа одного из классиков бразильской литературы Жоана Гимараэнса Розы «Тропы большого сертана»: «Если сам господь бог вздумает сюда явиться, пусть приходит вооруженный!»
И когда в самом деле добрый Иисус вздумал явиться в сертаны, ему пришлось взять оружие, но люди все равно сумели убить его...
Другие бразильские писатели тоже обращались к горькой судьбе жителей сертанов. «Кангасейро» Ж. Линса до Рего, «Иссушенные жизни» Грасилиано Рамоса, «Красные всходы» Жоржи Амаду, «Рассказы» Жоана Гимараэнса Розы. «Писатели... наделяют сертанца правом выражать дух Бразилии...» —пишет историк бразильской литературы (Werneck Sodre N. Historia da literatura brasileira, Rio, 1960, p. 299).
В конце 1890-х годов в степях вспыхнуло крестьянское движение, объединившее две традиционные для Бразилии формы народного протеста: летучие отряды разбойников-кангасейро и религиозно-мистические секты. Движение возглавил бродячий проповедник по прозвищу Консельейро (Наставник). Последователи считали его новым Христом, себя именовали апостолами, составляли новое Евангелие. Наставник пророчил скорый конец света, объявил государство царством Антихриста, призывал верующих не платить налоги и не отвечать на вопросы всеобщей переписи населения, так как, дескать, при помощи переписи подготавливается возвращение к рабству. В проповедях Наставника звучали отголоски наивно-патриархальной идеализации монархии, а также отзвуки себастьянизма — старинной португальской мессианистской легенды, занесенной конкистадорами в Бразилию. По наивным представлениям сектантов, португальский король Себастьян (погибший под Алказаркивиром в 1578 г.) на самом деле не погиб, а скрывается на зачарованном острове в Тихом океане, с тем чтобы однажды объявиться в мире и установить царствие божие на земле.
Вместе с тем в «наставлениях» и действиях Консельейро были элементы общинного коммунизма. Захватив большое поместье в Канудосе, восставшие установили коллективную собственность на землю и орудия труда, уравнительное распределение продуктов. Власти, а потом и официальные историки выдавали крестьянское волнение за монархический заговор, подогреваемый иностранными агентами. За два года существования мирной общины в Канудос были посланы три карательные экспедиции, одна мощнее другой. Повстанцы оборонялись примитивнейшим оружием — и оборонялись немыслимо долго. Лишь после полуторагодовой осады, которую вела восьмитысячная, вооруженная «круппа-ми» и «манлихерами» армия под командованием самого военного министра, Канудос пал и был стерт с лица земли, а все уцелевшие его защитники — зверски умерщвлены.
Последнюю военную экспедицию сопровождал молодой журналист Эуклидес да Кунья. Потрясенный тем, что он увидел в сертанах, да Кунья писал другу: «Я буду мстителем и выполню великую задачу моей жизни — стать защитником несчастных сертанцев, убитых подлым, трусливым и кровожадным обществом».
«— Я не позволю забыть Канудос,— вдруг произнес репортер и устремил на барона пристальный взгляд своих косоватых глаз.— Я поклялся, что не допущу этого ».
А это уже клянется в романе «Война конца света» вымышленный Марио Варгасом Льосой репортер — свидетель канудосской резни. Эуклидес да Кунья был потрясен реальной эпопеей Канудоса — и родилась его книга «Сертаны», этот оригинальный сплав научного трактата о природе и людях Северо-Востока Бразилии с художественно-документальным повествованием о восстании в Канудосе. А Варгас Льоса, волею судьбы столкнувшись с этим поразительным материалом (около десяти лет назад бразильский режиссер Руи Герра заказал ему сценарий фильма по «Сертанам»), был потрясен эпопеей, написанной да Куньей. Недаром новый роман посвящен памяти бразильского писателя (второе посвящение—Нелиде Пиньон, известной бразильской журналистке и автору книг о жизни сертанцев).
«Все, что я делал прежде, было подготовкой к этой книге,— сказал Варгас Льоса корреспонденту газеты «Вангуардиа»,— это книга, которую я всегда мечтал написать» (La Vanguardia, 7 de Marzo 1981, p. 6.).
Перуанец Марио Варгас Льоса (род. в 1936 г.) уже первой своей книгой «Город и псы» (1963, рус. пер. 1965) завоевал мировую известность. Следующий его роман «Зеленый дом» (1966) укрепил репутацию зрелого мастера; русский перевод этой книги был выпущен в серии «Мастера современной прозы» (1971). Затем последовали «Разговор в «Кафедрале» (1969), «Капитан Панталеон и Рота добрых услуг» (1973, рус. пер. 1979), «Тетушка Хулия и писака» (1978, рус. пер. 1979) — эти книги награждены различными литературными премиями. В 1976 г. писатель был избран президентом Международного ПЕН-клуба, что также свидетельствует о всеобщем признании его таланта.
Талант Варгаса Льосы — рано сформировавшийся, рано раскрывшийся — талант однолюба. Он знает одну лишь тему — Латинская Америка, ее прошлое и настоящее. Во всех своих книгах, как бы разительно они ни отличались, Варгас пишет о том, как в Латинской Америке — в столичных городах и в амазонской сельве, в горных селениях и в песчаной пустыне — складывается «нормальное» буржуазное общество и старается прибрать к рукам прежнее буйное своеволие. Но при этом буржуазный расчет срастается с варварской жестокостью. Дикое насилие приспосабливается к новым порядкам, мимикрирует, напускает на себя пристойный вид... и остается прежним насилием: никому не удается избежать унижений.
Проблема насилия — латиноамериканской violencia — центральный объект описания в творчестве Льосы. На нем он сосредоточен, его в первую очередь отмечает и в жизни, и в литературном произведении. Даже когда Варгас Льоса, уходя от латиноамериканского материала, анализирует флоберовскую «Мадам Бовари», он видит следующее: «В этой книге насилие пропитывает рассказ, проявляется во множестве планов. В плане физическом — боль и кровь (операция, гангрена и ампутация ноги у Ипполита, смерть Эммы от яда), в духовном плане — хищничество торговца Леру, эгоизм и трусость Родольфа и Леона, наконец, в социальном плане — эксплуатация и каторжный труд, доводящие человека до скотского состояния (старуха Леру)...» - Vargas Llosa M. La orgia perpetua («Flaubert у Bovary»). Madrid, 1975, p. 23.
Мещанский мирок, описанный Флобером, отнюдь не кажется перуанскому писателю буднично серым, невыразительным, бессобытийным. Это страшный мир, полный крови и насилия, и в благопристойных картинах Руана и Ионвиля ему ощутим дух латиноамериканской сельвы.
С насилием связывает Варгас Льоса и свои представления о реальности. «Произведения, в которых вовсе не говорится о насилии, кажутся мне ирреальными,— пишет он.— Я всегда предпочитаю романы, изображающие реальное,— хотя некоторые предпочитают книги, рисующие фантастическое. Мне же всегда нереальное смертельно скучно» (Vargas Llosa M. La novela. Lima, 1968, p. 22).
Варгасу Льосе скучно нереальное? Почему же тогда во всех его книгах так много фантастического? На такие вопросы нередко приходится отвечать латиноамериканским писателям, приходится объяснять публике свои поразительные вымыслы, и примечательно, что объясняют они их не свободным полетом воображения (хотя такое объяснение было бы вполне законным), а опираясь на самые действительные явления — на трагические и трагикомические нелепицы жизни латиноамериканцев.
Так, Варгас Льоса во время публичного диспута с Габриэлем Гарсиа Маркесом на тему «Роман в Латинской Америке» вспомнил, как правительство одной латиноамериканской республики издало декрет, предписывавший какой-то эпидемии немедленно прекратиться. «После этого пусть говорят о фантастичности наших вымыслов,— добавляет он.— Еще не хватало декретом запретить сельве расти!» - Garcia Marquez G., Vargas Llosa M. La novela en America 3 Latma. Dialogo. Lima, 1968, p. 25.
Именно такую, жестокую и фантастическую, ситуацию имеет Варгас Льоса в виду, создавая роман «Война конца света»: война правительства против собственного народа, дикая война, когда брат в солдатском мундире режет глотку брату в лохмотьях жагунсо и оба не понимают, отчего они враги. Война бесперспективная, как война с сельвой, с природой: ведь единственное, что можно сделать с противником, это вовсе истребить его. «Сертанец был частью природы...» — писал да Кунья. С поистине фантастической достоверностью показывает нам Льоса, что такое уничтожение дотла : уничтожение целого мира.
Видный критик Эмир Родригес Монегаль метко сказал о Варгасе, когда тот был еще очень молод: «Этот юный перуанец пишет с жестким взглядом, стиснув зубы, как от рвущей внутренности боли...» - Rodriguez Monegal E. Narradores de esta America, ser. 2. Buenos-Aires, 1974, p. 357.
Впечатление от «Сертанов» да Куньи, по собственному выражению Варгаса Льосы, перевернуло всю его жизнь; он, неуемный фантазер и выдумщик, на сей раз решился, почти ничего не выдумывая и ничего — кроме документальных фактов — не добавляя к сюжетному костяку, заново пересказать историю Канудоса, пересказать вслед за предшественником, выявив и подчеркнув в рассказе такие моменты, которые должны особенно заинтересовать современного читателя. Гигантский материал, собранный да Куньей, безусловно, помог новому рассказчику, но и поставил его перед серьезными трудностями. Книга да Куньи удивительно пластична: описания пейзажа сертанов в разные времена года, партизанских вылазок, страшной толпы пленных настолько выразительны, что, кажется, их невозможно превзойти. Варгас должен был выбрать свой путь — и он нашел его. Это путь современного повествователя, искусно меняющего в процессе повествования точку зрения и показывающего событие сразу в нескольких разных перспективах.
Эуклидес да Кунья, несомненно, стремился к объективной точности и научности подхода к событиям, однако в период работы над «Сертанами» он еще придерживался позитивистских взглядов на роль географической среды и массы в истории. И поэтому объяснение, которое он дает возникновению крестьянского протеста в Бразилии, сейчас уже не удовлетворяет.
Варгас Льоса попытался по-новому мотивировать и индивидуальные, и массовые действия — и в социологическом, и в психологическом плане. При этом он не чувствует себя скованным позитивистской фактографичностью, он смело прибегает к вымыслу, сочиняя предыстории реальных лиц, упоминаемых да Куньей, вводя новые лица, как исторические, так и вымышленные.
Главные из персонажей, названных уже в книге да Куньи, — это ближайшие соратники Наставника: Блаженненький, Жоан Апостол, Жоан Большой, Меченый. Это и командующий второй экспедицией полковник Морейра Сезар (у да Куньи — воплощение военщины, претендующей на диктаторскую роль в государстве), и другие военные. Некоторые исторические лица преображены Варгасом: таков барон Каньябрава, владелец земель Канудоса, аристократ-латифундист, глава местных монархистов, образованный, умный политик-интеллектуал. И, наконец, вымышленные—крестьяне, бандиты, священники, бродячие циркачи, солдаты — весь живописный «шекспировский фон» — и несколько принципиально важных для романной концепции фигур.
Это Журема — сложный символический образ, олицетворение латиноамериканского духа в его женской ипостаси: она не может бороться с насилием, но не может и примириться с ним, и душа ее замирает в каком-то полусне-полужизни, до тех пор пока не приходит любовь. Свободно, не по приказу она обнимает самого беззащитного, самого слабого из мужчин — наверное, потому, что он единственный, кто не пытается захватить ее как собственность, не действует с позиций силы.
Журему повсюду сопровождает Карлик. Не со страниц ли «Жестяного барабана» Гюнтера Грасса перешел он в книгу Варгаса Льосы? Перечисляя важных для своего творчества писателей, Варгас Льоса поставил Грасса на одно из первых мест. Если наша догадка справедлива и эта фигура — цитата, можно истолковать ее как намерение напомнить читающему об ужасах войны XIX века — ужасы века XX, обобщить, «укрупнить» трагический опыт Канудоса, показав «войну конца света» через призму мировой войны.
Теперь о двух самых главных образах Льосы. Френолог-шотландец Галилео Галль, сотрудник анархистской газетки «Этенсель де ла Револьт». В этой чудаковатой, нелепой и привлекательной фигуре, которой приданы некоторые черты Бакунина, воплощена мистика особого рода, не тождественная мистике Наставника, но рождающая не меньший фанатизм,— мистика абстрактной, не считающейся с реальными условиями, игнорирующей очевидные факты революционной идеи. Уверенность Галля в том, что френология есть последнее слово науки, а ощупывание черепа дает самые точные сведения о человеке и его жизненной позиции, соотносится со схоластичностью его искренних и самоотверженных революционных воззрений.
При первом появлении на страницах романа «близорукого журналиста» трудно удержаться от соблазна увидеть в нем портрет Эуклидеса да Куньи. Но предыстория «журналиста»—завсегдатая богемных кафе Баии, курильщика опиума, неудачливого литератора — совсем не похожа на биографию Эуклидеса да Куньи, военного инженера по профессии, еще кадетом прославившегося на всю страну смелым поступком: в знак протеста против участия армии в подавлении республиканского движения он во время смотра швырнул свою шпагу к ногам министра. Единственное и главное, что роднит персонаж: и его эвентуальный прототип,— это духовный переворот, пережитый в Канудосе.
Галилео Галль рвется в Канудос, он хочет участвовать в истории, он отважен и силен, но он не считается с реальной обстановкой и с реальными людьми и потому бесславно и бессмысленно гибнет, не дойдя до цели. Журналиста влечет поначалу лишь писательское любопытство, затем его подхватывает поток случайностей, отнюдь не всегда он справляется с трусостью и душевной слабостью. Но он впитывает, переживает, осмысляет, и это впоследствии оказывается в отличие от лихорадочной активности Галля подлинным историческим действием, настоящим творчеством истории — ибо именно он «не даст забыть Канудос».
Не две — десятки точек зрения на события сталкиваются в романе. Для Морейры Сезара Канудос — это бразильская Вандея, он и другие республиканцы видят английских агентов и заговорщиков-монархистов там, где их отроду не бывало. Для аристократа-барона — это взрыв слепого и невежественного фанатизма; для Наставника— конец света, в точности, вплоть до масти лошади Морейры Сезара, предсказанный Апокалипсисом. Для генералов повстанцы — бандиты, не желающие вести войну «по правилам», а для симпатичного студента-медика они с их методами — просто «каннибалы». Для Галилео Галля те же повстанцы — «проклятьем заклейменные», наконец-то восставшие, как восстала когда-то, в пору его отрочества, беднота в Париже, и ему представляется даже, будто Наставник «проводит в жизнь наши идеи, но, учитывая уровень своих неразвитых и забитых сподвижников, по тактическим соображениям придает этим идеям религиозную окраску». Журналист, потрясенный безграничной верой, которую внушает крестьянам Наставник, допускает даже, что он — новый Христос. И все это не просто «мнения», это экзистенциальные позиции, обусловливающие поведение людей, их восприятие событий и тем самым формирующие события.
Обычно романы Варгаса Льосы поражают читателя своей сложной, тщательно продуманной структурой. Но за всеми формальными «тактическими» приемами никогда не утрачивается «стратегическая» цель — вместить в произведение динамичный, конвульсивный мир. Излюбленный художественный прием Варгаса — предлагалось назвать его приемом «сообщающихся сосудов » (Тертерян И. Смех и серьезность Марио Варгаса Льосы.— В кн.: Варгас Льоса М. Капитан Панталеон и Рота добрых услуг. М., 1979, с. 16) — напоминает кинематографический монтаж и какой-то критик даже окрестил его «эйзенштейновским». Любую сцену, любой эпизод автор рассекает на фрагменты, иногда мельчайшие, до одной реплики, а затем монтирует вперебивку с фрагментами других сцен, где действуют абсолютно другие персонажи. Ситуации, отстоящие друг от друга во времени и пространстве, благодаря этому развертываются как симультанные, как элементы некоего единого события. «Сплавляясь в единую повествовательную реальность, каждая ситуация вносит свое напряжение, свой эмоциональный климат, свой образ действительности, и из этого сплава создается совершенно новый образ действительности» — так поясняет романист цель этого приема (Vargas Llosa M. La novela, p. 22).
Знакомый со стилем Варгаса читатель, открывая «Войну конца света», уже готовится воспринять нервный, мозаичный, рубленный на куски текст. Однако первые же части романа обманывают его ожидания. «В этой книге я, пожалуй, еще больше, чем обычно, непохож на себя»,— признался писатель корреспонденту «Литературной газеты» (Литературная газета», 13 июля 1983 г., с. 11.)
Автор отказывается от «осколочного» повествования, монтирует объемные, линейно выстроенные куски. Он как бы стремится заставить читателя забыть о том, что перед ним — плод индивидуального художественного вымысла, пытается воссоздать эпический дух народной хроники. Это дало повод многочисленным рецензентам вспомнить сформулированную Варгасом несколько лет назад мысль о том, что «роман должен осмелиться рассказывать, преодолеть паралич теоретизации, гипертрофию поэтизации, литературной техники, которые за несколько десятилетий... довели этот жанр чуть ли не до самопожирания» (Cano Gaviria R. El Buitre у el ave Fenix. Conversaciones con Маriо Vargas Llosa. Bogota’, 1972, p. 168). Много пишут и о возвращении Варгаса Льосы к классической модели романа — к «Войне и миру» Толстого, к произведениям Флобера и Стендаля — и дальше — в глубь истории литературы, к рыцарскому роману (Clarm. 19 noviembre 1981, p. 8).
Вначале кажется, что автор неотступно следует за Эуклидесом да Куньей: первые главки сжато, энергично, без педантичной учености, свойственной первым частям «Сертанов», выполняют в целом ту же задачу — рисуют природный и социальный мир равнинных областей Бразилии, дают экспозицию событий. Затем повествование набирает силу, растекается по разным рукавам, задерживается на предысториях персонажей, но все же воспроизводит события в линейной хронологической последовательности. И лишь когда читатель оказывается полностью вовлечен в атмосферу действия, финал истории — разгром Канудоса—раскрывается перед ним совсем иначе: не так, как это сделано у да Куньи, а так, как это делал Варгас Льоса в прежних своих романах: с внезапными временными перебивками, совмещающими историю и комментарий к ней. Эпизоды разгрома как будто выплывают из затемнения и развертываются перед глазами двух участников драмы, беседующих много месяцев спустя, когда все уже кончено и даже забыто.
Однако в многоголосице повествования удается выделить два основных плана, проходящих через весь роман. На это указал и сам Варгас в беседе с корреспондентом «Литературной газеты»: «Я старался быть объективным, точно передать ход военных действий. Но история данной войны известна лишь наполовину... Она описана исключительно с позиции республиканцев, но не с позиции крестьян» (Литературная газета», 13 июля 1983 г., с. 11.). И Льоса стремится заполнить пробел, представив целый, не «ополовиненный» образ исторических событий.
Первая глава начинается рассказом о приходе Наставника— нового мессии; повествование ведется явно от лица крестьянина, исполненного необоримой веры в святость Учителя. Как легенда народного сказителя, этот рассказ не знает ни сомнений, ни противоречий — тонко и умело реконструирует Варгас Льоса мифологизирующие механизмы народного творчества. Даже повествуя о злодействах, обобщенный народный рассказчик не меняет интонации, спокойной и невозмутимой: он знает, что разбойник, зверски разоряющий беззащитные деревни, прежде был ему братом и снова станет братом, когда установится царствие справедливости на земле, царствие Канудоса, и «лев возляжет рядом с ланью».
Эту хронику Варгас Льоса делит на крупные повествовательные блоки и чередует их с фрагментами совершенно другого плана — они «сфокусированы» в мире, противостоящем первобытно равноправному миру Канудоса. В этой иной реальности нет прежних представлений, прежних атрибутов средневековой легенды— чумы, вериг, власяниц. Здесь страдают от иных бедствий, истязают себя и друг друга иными орудиями: хитрят, враждуют, плетут интриги. Мир города, готовящийся двинуть все свои современные силы и технику на завоевание архаичного мира сертанов, весь пронизан внутренними противоречиями, раздираем враждою.
А в канудосской общине, живущей как единый организм, если верить коллективному рассказу ее членов, ни вражды, ни мерзавцев, ни предателей нет.
Параллельно (сцена в сертанах и сцена в редакции газеты) смонтирована завязка романа, и этот параллелизм прослеживается во всем его массиве, вплоть до финала. Вот Канудос уже побежден и уничтожен, и мы видим, как очередная распря разъедает мир победившей цивилизации: взбешенный грубым отзывом о своем подразделении полковник Жералдо Маседо наносит смертельное оскорбление прапорщику Мараньану, палачу пленных Канудоса. А горстка уцелевших защитников городка — изможденные, искалеченные женщины и дети — и под угрозой пытки сплочена в гордой верности друг другу: они безмолвствуют в единении.
Вероятно, кому-то может показаться, что столь категоричным, вынесенным на уровень композиции разделением мира на «тот» и «этот» автор стремится идеализировать патриархальную, архаичную стихию истовой религиозности. Но это опровергается и прямыми высказываниями писателя, и предыдущим опытом его творчества. Вспомним хотя бы историю секты «братьев по кресту», рассказанную в романе «Капитан Панталеон и Рота добрых услуг» как факт действительности (а латиноамериканская действительность переполнена страшными, не менее трагическими фактами). Какое жгучее сострадание к несчастным фанатикам, какое возмущение условиями, питающими их фанатизм, внушил Варгас Льоса читателям!
«Вот главная тема моей книги: фанатизм и взаимная глухота людей как причина социальной и исторической трагедии: гражданских войн, массовых убийств, репрессий. Хотя фанатизм по своему содержанию бывает разным, его формы всегда одинаковы: полное игнорирование доводов соперника, неприятие критики, самонадеянная уверенность в собственной абсолютной правоте. Когда сталкиваются два характера такого типа, совершается убийство — это одна из констант латиноамериканской истории...
Это была первая в Латинской Америке война, которая носила идеологический характер, и я в своей книге показываю, какая страшная ответственность лежит на интеллигенции, способствовавшей этой резне. Интеллигенты-демократы рассматривали Канудос как орудие заговора враждебных республике сил. А в действительности никакого заговора не было: людьми двигали голод, невежество, нищета...
...Мне кажется, в этой книге я нашел тему, которую искал всю жизнь,— подытоживает рассказ о своем замысле Варгас Льоса.— «Война конца света» символизирует горе и страдание Латинской Америки — к сожалению, не только прежние, но и нынешние» («Литературная газета», 13 июля 1983 г., с. 11).
Структура повествования дала критикам повод говорить о том, что история у Варгаса Льосы «идеологически двусмысленна», отношения между реакцией и революцией «запутанны». Надо сказать, что Варгас Льоса — ярко и парадоксально мыслящий художник — некоторыми своими публичными высказываниями, выступлениями в прессе мог дать повод к упрекам в известной идейной непоследовательности. Но главное высказывание писателя — его творчество, и нужно вникнуть в диалектику творчества Варгаса Льосы, чтобы разобраться: действительно ли на имплицитный вопрос «Существует ли единый исторический процесс или единая истина в истории?» Варгас отвечает «Нет», как пишет один из рецензентов? (J. Lafforgue. El reto literario de Mario Vargas Llosa. Clarin. 19 Nov. 1981, p. 8).
Конечно, писатель понимает диалектическое отношение революционного и реакционного на каждом историческом этапе и знает, почему революционные чаяния бразильского крестьянства облекались в форму религиозных ересей. Любая из точек зрения персонажей неполна, дефектна, хотя и содержит долю истины, и приближение к объективной истине возможно только путем синтеза противоречащих друг другу установок. Роман содержит все необходимое для того, чтобы такой диалектический синтез осуществился в сознании читателя, которому предлагается объективно оценить и историческое значение, и историческую ограниченность Канудоса.
Но есть у художника и еще один ответ, еще одна «истина», не исключающая объективной истины исторического развития, но дополняющая ее на другом уровне,— своего рода «субъективная правда» коллективного протагониста.
Когда журналист попадает в осажденный Канудос, он чувствует, что вступил не только в особое пространство, четко отграниченное от мира магическим кругом обороны, но и в особое время. Соратники Наставника не различают «раньше» или «потом», время для них нелинейно, дни и ночи движутся по замкнутому кругу. Журналист вспоминает негритянское радение — кандомблэ, на котором однажды присутствовал: там яростно пляшущая толпа тоже по-особому, вне рассудка и логики, ощущала пространство и время, у нее был «свой человеческий опыт, своя организация жизни». И журналисту кажется, что в этом-то опыте и состоит разгадка Канудоса—«чудовищного рая духовности и нищеты». Иными словами, коллективный герой Канудоса наделен мифотворческим сознанием и творит вокруг себя миф, или заново переживает старый миф, и достигает такого перевоплощения, что рационально мыслящий журналист — и тот готов поверить в тождество бразильского холма Бело-Монте и Голгофы. Тут есть свои Мирская Мать, ученики, евангелисты...
Но автор книги — не мифотворец. Показывая, как рождается и как действует миф, он анализирует механизм этого действия, реальное человеческое содержание нового мифа.
«Мы были ничем, а он нас превратил в апостолов»,— думает Блаженненький, и его «захлестывает волна счастья». К Наставнику сходятся самые несчастные, самые преследуемые, самые бесправные. И в замкнутом мире Канудоса они перерождаются. Жестокий разбойник Жоан Сатана становится преданным учеником Жоаном Апостолом, а потом талантливым военачальником, комендантом крепости. Другой бандит, Меченый, удивляет высоким чувством справедливости и скромным мужеством. Разорившийся торговец Антонио Виланова проявляет такие организаторские способности, что становится настоящим премьер-министром маленькой республики...
Всех этих людей Наставник приобщил к некоей вечной и неоспоримой ценности, показал высокую меру, коей может быть измерена жизнь каждого из них,— и люди распрямились, открыли в себе что-то ранее неведомое ни им самим, ни окружающим. Но это не мистическое преображение, это взрыв человеческого достоинства, превращение «угнетенной твари» в творящего историю человека. Память об этом превращении живет и после того, как Канудос стерт с лица земли, после того, как на жесткие травы сертанов выпала кровавая роса. Память живет — и в этом секрет Канудоса, его посюсторонняя, необоримая духовность.
И. Тертерян, E. Костюкович