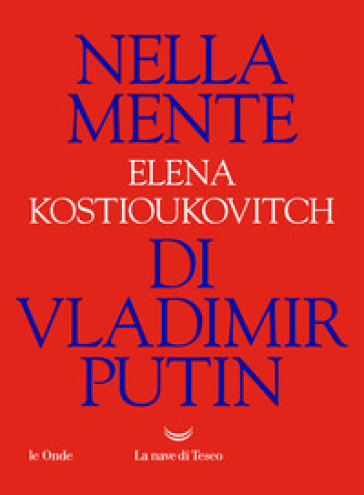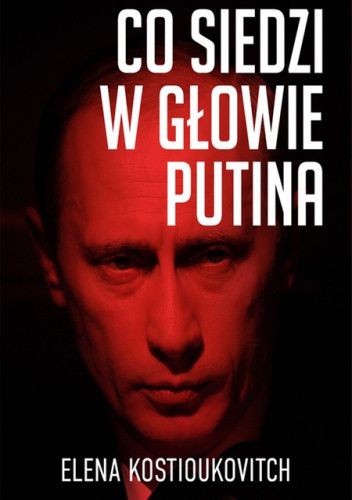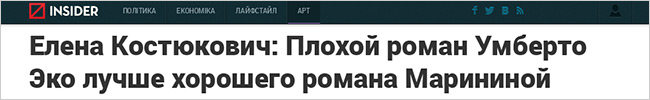

Елена Костюкович: Плохой роман Умберто Эко лучше хорошего романа Марининой
Ярина Груша
Елена Александровна Костюкович — человек без границ, родившийся в Киеве, получивший образование в Москве и обосновавшийся в Милане.
Культовая личность целого поколения, которая воплотила Умберто Эко на русском, проложила русско-итальянскую автостраду, доставившую в страну Роберто Савиано и Алессандро Барикко тексты Людмилы Улицкой и Бориса Акунина.
Елена Александровна рассказала INSIDER о своем новом романе, работе с Умберто Эко и Италии.
— Ваш роман "Цвингер" является и романом о памяти, и в той же мере детективом об искусстве. Насколько Эко повлиял на Елену Костюкович-писателя? Как вы боролись с тем, чтобы Эко не просочился на страницы вашей первой художественной книги?
— Я не думаю, что я боролась с Эко как-то специально. Он, конечно же, просочился, не буду делать вид, что я выработала какой-то особый иммунитет к нему, нет. У меня голос повествователя похожий, потому что им я переписала-переводила несколько книг Эко. А потом я поняла, что это и мой голос тоже, им он и останется.
Сюжет, опять-таки, — тут тоже ничего сознательного я для копирования Умберто Эко не предпринимала: я же не сумасшедшая, чтобы не понимать, что меня с ним ассоциируют. Мой роман "Цвингер" в итальянском переводе носит название Sette notti ("Семь ночей"). Это своеобразная игра с названием книги моего деда "Семь дней". Мой дед, Леонид Волынский, написал эту книгу по следам своего военного прошлого: в мае 1945 года он в Дрездене организовал работу по поискам спрятанных картин Дрезденской картинной галереи, потом рассказал эту историю в "Семи днях". Та же история пересказана и в моем романе, но у меня она окружена детективной интригой. Структура повествования отдаленно соотносится и с композицией романа Эко "Имя розы": там тоже действие происходит в течение семи дней, и читатель видит действие глазами одного и того же героя - повествователя.
С таким же успехом я следую и за дедушкой, который еще в 1957 году опубликовал свою книгу. Как происходят эти взаимопроникновения? Как срабатывают эти пружинки? Если результат такой же приятный, как и в текстах Эко — это очень хорошо! Хотя я все же думаю, что мой роман читается по-другому. Некоторые сюжетные движения романа "Цвингер" потом появились в новой книге Умберто Эко "Номер ноль", которую я же и перевожу сейчас. Он не читал мою, а я не могла прочитать его, потому что моя вышла раньше. Такие дела.
— Может, это "Дух времени" — тот Zeitgeist, о котором говорит Умберто Эко в своих теоретических работах?
— Или Дух времени или Дух-гений места. Например, у меня происходит действие в Орте, таком маленьком городке возле Милана. Я открываю новый роман Эко, после того, как мой ушел в печать, смотрю - и у него тоже Орта всплыла.
Потом Эко говорит мне на моей презентации: "Почему у тебя в Орте все происходит?” А я ему: "Во-первых, почему это у тебя в Орте? Я ведь раньше опубликовала книгу! Во-вторых, говорю, потому что в Орте и у тебя, и у меня были дачи и там росли наши дети".
У Эко было навалом своих личных причин, чтобы написать роман о памяти ("Таинственное пламя царицы Лоаны", - прим. ред.), а у меня — тысяча своих поводов об этом думать. Мне тоже нужно было как-то восстановить память, и о собственных историях (ибо главный герой - это почти мой альтер эго), и об утраченном семейном прошлом. Мой дед Леонид Волынский был интереснейшим человеком, я многое могла бы узнать у него. Но он умер, когда мне было десять лет. Вот о таких интересных, даже прославленных, но не до конца понятных фигурах (ищешь документы, стараешься реконструировать психологию) можно писать только вымышленные сюжеты. Настоящие сюжеты покрыты мраком беспамятства, многие связи утрачены, и документально их уже не восстановить. Главное - постараться не соврать в психологических нюансах и в исторической фактологии.
У меня было большое желание написать роман, с одной стороны, детективный, чтобы людям не было скучно заниматься вместе со мной жизнью моего дедушки. Но для меня в книге важна была еще и память - как, думаю, и для любого из нас важна память о нашей семье.
С моим дедом произошла крупнейшая историческая несправедливость. Недавно мы нашли просто фантастический документ в Музее памяти — лист о представлении к одной из крупнейших боевых наград, из которого его просто взяли и вычеркнули! Сделали это из-за того, что он в свое время был в плену. Был в плену и бежал, проявил себя героем, вернулся в строй, имел кучу партизанских благодарностей и довоевал! В чем же он (и подобные ему) были виноваты? В свое время советская власть его сдала, как и миллионы других в киевском котле, где в основном все погибли. А он вернулся и даже не знал, что его вычеркнули из наградного листа. Я нашла этот документ только сейчас, когда деда моего нет на свете уже 40 лет.

— Вы переводчик на родной русский язык, но уже многие годы живете в стране языка, с которого переводите, - в Италии. Вам, профессиональному переводчику, не сложно жить вне контекста родной речи?
— Ответ на этот вопрос у меня будет грустный: я считаю, что мне пора заканчивать с переводами на русский язык, я утрачиваю связь с живым языком в развитии. Хотя этот язык развивается так мучительно, впитывает в себя такое количество бесчеловечия и агрессивности, свойственной историческому моменту России, что с этой точки зрения, может быть, как раз наоборот, мне нужно работать, чтобы читатель получал хоть какую-то подпитку нормального языка нашего времени. Но язык и нашего времени был не слишком прекрасен, потому что и он, в свою очередь, уже был извращением того восхитительного русского, который существовал до революции.
Я, разумеется, потеряла чувство современного языка - другое дело, что он и не нужен для перевода, потому что зачем переводить на язык, которым сейчас говорят путинцы всякие там?
У меня, к счастью, нет среди друзей никакого итальянца, который говорит на его языке, ну разве может Берлускони, верный дружок! Поэтому язык во мне сейчас законсервирован, как в холодильнике.
Хотя у меня есть другое качество, которое крайне полезно: я действительно очень хорошо понимаю, что происходит здесь в Италии и про что в здешних текстах написано. И даже, например, в последнем романе Эко то, что написано, я не только прочитала, но и пережила это сама в 1990-е годы.
Как переводчик я принадлежу к школе, из которой уже все умерли. Из тех людей, на которых я ориентировалась, остался только Виктор Голышев. Такие гиганты, как Андрей Сергеев, Михаил Гаспаров, Борис Дубин — это люди, с которыми я мысленно разговариваю, когда что-то перевожу: "Ой, не делай этого, потому что Дубин поморщится или Гаспаров не поймет".
— С чего вообще началась любовь к итальянскому языку? Почему, поступая в университет, вы выбрали именно кафедру итальянистики?
— Когда люди поступают в университет, они, во-первых, находятся в большом стрессе, во-вторых, ничего еще не понимают. Из-за вот такого непонимания и большой случайности я и попала в итальянскую группу. Это был 1974 год, и в те времена все хватались за возможность выучиться с таким расчетом, чтобы потом попутешествовать. И я тоже поэтому хотела выучить один диковинный, очень редкий язык. Но мне тогда и в голову не приходило, что они хотели, чтобы за эти путешествия я заплатила такую ужасную цену. И думаю, я бы ее не заплатила, предполагаю, что нет.
Как выяснилось, они там вербовали резидентуру для секретных служб и меня просто выгнали, потому что я не годилась.
Когда я сидела в коридоре и ужасно грустила, мимо прошел кто-то и спросил, чего я вдруг. "Тебя выгнали, и ты не знаешь за что? Вот за это тебя и выгнали! За твой политический и социальный критинизм!"
Я была наивная. Мне удалось очень быстро перекочевать в итальянскую группу. С тех пор я — итальянист и ничего не могу сказать, кроме величайшей хвалы фортуне, что это случилось!
— После первых переведенных романов Умберто Эко у вас выработалась своя система перевода его текстов? Или каждый раз — это было как заново? Какой ваш любимый роман Эко?
— Принципы перевода человек, конечно же, вырабатывает, и у меня тоже это случилось. Самое важное это то, что человек перестает дико бояться и уже знает, что ему нужно делать. У тебя также вырабатываются чисто физические навыки: надо что-то переложить, надо походить, кому-нибудь позвонить, отвлечься, написать из середины, потом сначала. По этому принципу вырабатывается звук, который искать иногда — мучительно и долго. Я именно так и перевожу большие романы — могу позволить себе потратить месяц на поиски звука, но когда я его нахожу, то дальше этим звуком я уже пересказываю написанное Эко.
Правда, это можно делать только с большими текстами, в которых каждое отдельное слово не должно стоять ровно на том месте и таким образом, где и как оно стояло в оригинале. А мой любимый роман Эко — "Маятник Фуко".
— Новый роман "Номер ноль" - очень не типичный для маэстро Эко. Пойдет ли он читателю?
— Читателю — чем хуже, тем лучше, а еще бы и покороче. Может быть, он пойдет, потому что очень уж короткий, и там мало, чего сказано, а может быть, не пойдет, потому что спросят себя, зачем им нужна вся эта муть про Италию, ведь им все эти реалии не известны. Может быть, скажут наоборот: что не известно, то и нужно.
Итальянский читатель покупает, но поругивает. Это роман старческий, увы, в нем нету ярких новых вымыслов, переводить его было не трудно. И я постаралась сделать это лихо — с тем расчетом, чтобы звук хотя бы "цеплял", дала дополнительный драйв довольно мягкому и не очень увлекательному тексту. Я говорю довольно грустно о нем, но я не хочу врать. Все же плохой роман Умберто Эко лучше хорошего романа Марининой. У вас все равно есть о чем думать, есть что держать в руках. Его стоит купить и прочесть! Все таки это Умберто Эко.
— Вы родились в Киеве. Какое место в вашей жизни занимает этот город?
— Киев ретроспективно занимает большое место в моей жизни, но, родившись в интеллигентной русскоязычной еврейской семье, я не могла ассоциировать себя с Киевом. Город представлял собою место очень любимое, как пейзаж, населенное в свое время любимыми именами: Булгаков, Ахматова, Мандельштам, которые в 20 годы творили восхитительную культуру. Но к нашему времени все это было задушено: везде было грубое КГБ, грубее, чем в Москве, и оно все время "топало" за любимым другом моего деда, Виктором Некрасовым. Он говорил мне: "Обернись", а за нами в двух шагах стояли топтуны! Это очень сильно действовало на психику.
Потом меня выгнали из пионеров за то, что я сказала, что хотела бы когда-нибудь стать королевой. Мне устроили судилище и сорвали при всех пионерский галстук!
Все это был городочек сомнительного обаяния, и уехала я оттуда не оборачиваясь и с большим удовольствием. Умер мой дед, эмигрировал Некрасов, и не понятно было, что там, собственно, оставлять. Москва была более свободным местом, здесь я познакомилась с очень интересными людьми.
Через 40 лет я вернулась и увидела совсем другой Киев! Он мне страшно понравился, речь идет о городе пять лет назад. Сейчас я продолжаю о нем думать, поеду искать в архивах своего прадеда, буду действовать так, чтобы восстановить все ниточки.
У меня в Бабьем Яру лежат убитые родственники, а украинский язык, который я почти забыла, всегда помогал переводить какие-то старые сложные тексты.
Я смотрела Майдан в прямом эфире, три дня и три ночи подряд, не отрываясь, вцепившись ногтями в ладони. Это было тяжело и очень сильно, и тогда я поняла, что имею к этому всему очень прямое отношение.
- В мае, аккурат под открытие выставки EXPO в Милане, где большинство стендов отведено именно для еды, вышла ваша книга "Почему итальянцам нравится говорить о еде?". Так почему же именно у итальянцев, а не, например, у французов, чья кухня тоже славится своей изысканностью, присутствует культ пищи?
- Культ — это то самое правильное слово. Но не в плохом смысле, как мы привыкли его обычно воспринимать. "Культ" - в смысле "культура", и объясняется это тем, что есть одна определенная вещь, которую хорошо знает и любит вся нация. Нация, или лучше употребить слово цивилизация, а еще лучше — страна. Я не люблю слова "народ", им уж очень сильно спекулируют политики.
Одним словом, все итальянцы знают о своих корнях в основном благодаря тому, что знают где, кто и что ел, и как это готовили. Знают для того, чтобы в будущем повторить то же использование какого-то продукта, относящегося к конкретной географии, и воспроизвести воспоминание о каком-то определенном событии.
Италия — страна маленькая, но она разделена на очень много разных областей, имевших каждая свои разные исторические и природные обстоятельства. Запад ориентировался на Новый свет, на Колумбовы завоевания, Адриатика же смотрела на славянский мир, на Византию, частью которой была и Украина. В каждом месте образовалось свое художественное, архитектурное, скульптурное искусство. Эта же специфика культуры отобразилась и в еде, традициях, привычках, во взгляде итальянцев на самих себя. Еда для них не представляет, как бы это сказать, средство насытиться или же "кто богаче, тот съест больше", скорее наоборот — поменьше, но получше.
Есть только одна вещь, которая связывает и профессоров, и плотников, и эта связь возникает по той простой причине, что не есть же невозможно. И тогда, садясь за один стол, уже не важно, сколько книг ты прочел. Главное, что ты владеешь вот этим вот инструментарием самоосознания.
— Как этот культ втянул и "перемолол" вас, выходца из совершенно другой культуры, где даже детям в детских садах твердили "Когда я ем - я глух и нем"?
— Я родилась в Киеве, в русскоязычной еврейской семье, космополитической в смысле своих вкусов и культурных предпочтений. Я не воспринимаю украинскую культуру как нечто особое, да и русскую культуру тоже так не воспринимаю. Не восхищалась ни той, ни другой, просто считала, что это часть мировой культуры. Тем не менее, я была носителем определенных навыков, каких-то "тиков" и каких-то мысленных привычек, и одной из них была та, что интеллигентные люди о еде не разговаривают. У нас это было просто не принято. Это считалось мещанством. Максимум, о чем мы говорили: "налить тебе еще?" или "будешь еще?" Мы не называли еду никаким словом. Я помню, когда я впервые приехала в Германию, за ужином меня спросили: "Налить тебе еще супа из бычьего хвоста? (Ochsenschwanzsuppe)" Я была потрясена этим вопросом, потому что только он-то на столе и стоял! А для них называть этим длинным именем этот суп из хвоста — было сплошным удовольствием.
"Когда я ем - я глух и нем" — абсолютно идиотская пословица, которая полностью противоположна отношению итальянцев к еде. Когда люди едят, они же, наоборот, общаются между собой. Еще в древнем мире, римском и греческом, было представление о конвивиуме — это "жизнь вместе", это трапеза, поедание лежа, медленно и с обсуждением чего-то.
Конечно, это было связано со всевозможной голодухой в советские времена. Это и коммунальные квартиры: одна огромная кухня на всех, где моя бабушка и вовсе не готовила, чтобы не встречаться там с болтливыми тетками, на кухню отправлялась домработница. И вот я приезжаю сюда и обнаруживаю, что еда воспринимается, как радость, как повод для разговора незнакомых между собой людей.
Даже в метро, в транспорте, ну о чем там говорить? О политике? Опасно! Вдруг они Берлускони поддерживают, а мы вовсе нет! А что касается ризотто, тут более или менее: не рискуешь жизнью, а наоборот - приятно.
— Какое ваше отношение к выставке EXPO, которую критикуют из-за несоответствия масштаба ее проведения и нынешнего итальянского кризиса?
— Она, конечно, стоит того, чтобы о ней говорить. Во-первых, Милан, город глубочайшей культуры, старины, фантастических музеев и необыкновенной живописи. Но многие об этом не знают, все говорят: "Вот мы проезжаем Милан и нам придется, увы, просидеть здесь два дня, потому что у нас нестыковка рейса!" Так и хочется сказать: "Что вы мелете! Вы в столице западно-римской империи, в городе, где христианство в первый раз приобрело выразительность как свободная религия, городе, в котором родились самые главные идеи!" И Милан, наконец, получил повод, чтобы о нем говорили. EXPO — это праздник в основном архитектуры, но еда как одна из важных тем выбрана тут совершенно не случайно!
Гастрономия — это универсальный ключ к итальянской культуре вообще, и Милан выступил городом, который сумел все организовать, суммировать и подчеркнуть главные черты других итальянских регионов. Сюда стоит ехать и смотреть на праздник, который доступен по своей форме даже и для простых людей, не знакомых с культурой вообще.