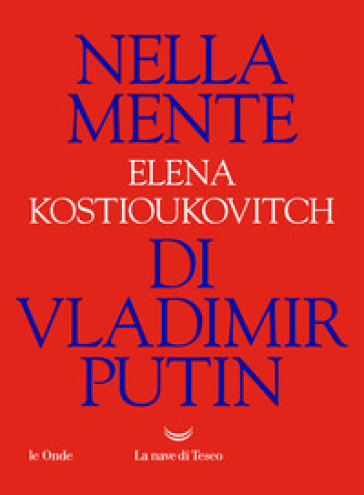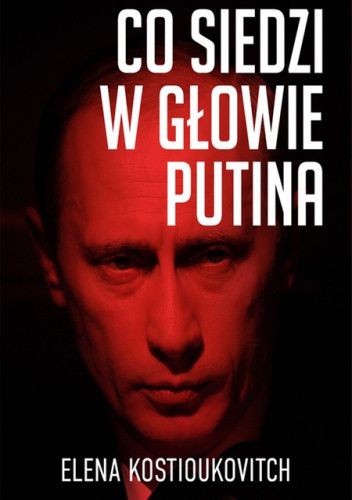Франческо Кьеза (1871-1973)
РАДОСТЬ
Ты ль это? Прежняя? Живая?
Ты, Радость? Здесь? И наяву?
Беглянка! Я давно живу,
тебя уже не ожидая.
Ты не оставила нигде
следов — ни хоженой тропинки,
ни переломленной травинки,
ни легкой ряби на воде,
ни указанья, ни прощанья...
Потом не раз в толпе густой,
внезапно встретясь, мы с тобой
окажемся на расстояньи
одной протянутой руки...
Ловлю я звук умолкшей речи,
глазами на мгновенье встречу
твои бесстрастные зрачки -
не вздрогнут темные ресницы,
и взгляд твой отчужден и строг.
Но ты — притворщица; не мог
я, наблюдая, ошибиться.
Ты, чтоб меня свести с ума,
все притворялась недотрогой,
хранила вид гордячки строгой,
и вдруг нежданно ты сама
пришла непрошеною гостьей,
и бешеным волчком взвилась,
меня маня в свой буйный пляс,
как танцовщица на помосте.
В лицо хохочешь: "Веселись!",
колдуешь, требуешь ответа.
Что я скажу тебе на это?
Ты опоздала. Примирись.
Твоих заклятий, хиромантка,
теперь беспомощен язык.
Напрасен твой призывный клик.
Ступай же прочь, комедиантка,
иди же к тем, кому даны
минуты жизни откровенной,
и не тревожь благословенной,
немой, дремотной тишины.
Тут спят в оцепененьи сладком
леса, игралища ветров;
листы деревьев и кустов
единым скованы порядком;
на легких крыльях облака
застыли в той среде, что, словно
они, прекрасна и условна,
прозрачна так же и легка.
Тут каждый цвет в своем броженьи
оттенка главного достиг;
застыла жизнь в конечный миг,
в миг высший самовыраженья.
Исчезни! Или же уймись,
оставь хмельное причитанье,
смири неровное дыханье,
вакханка, в жрицу обратись!
Заставь улечься волны смеха.
Из тысячи твоих личин
ты облик избери один
и помни: все ему помеха,
все, что в тебе еще поет
и рвется в танец: край туники
дрожащий, пляшущие блики
в кудрях или ресницы взлет.
Отныне, помни, над тобою
закона непреложней нет:
замри, как только верный след
отыщешь робкою стопою.
* * *
Три ночи ты исходишь злобным ревом,
поток дождя... Вчерашний грозный рык
похож сегодня на предсмертный крик,
а завтра - сгинешь в зареве багровом.
Но все таким же, ко всему готовым,
найстойчивым, неспешным, как привык,
пребудешь ты, медлительный родник, -
глубоким, узким, древним, вечно новым.
Восходит солнце, гром умолк, лесам
дарован сон. Где ливень скоротечный
рычал, кипел и бесновался — там
сухие отмели. Но бег беспечный
ты не ускоришь: ведь твоим речам
внимает тишина, о голос вечный.
* * *
И я тебе, лазурный голосок,
внимаю, но не вторю; и отныне
не радуюсь сверкающей пустыне
и не дрожу, как хрупкий стебелек.
Чужим теперь я вижу милый лог;
а ясных туч полет в небесной сини
мне кажется сияньем на вершине
предела, что неслыханно далек.
Я слушаю: звенит, в горах блуждая,
свирель спокойных стад... В ответ ни с кем
не говорит душа моя немая.
И счастлив я среди руин
затем присесть, ладонью камень осязая,
как тверд он, холоден, недвижен, нем.
* * *
Мох — благодать на вылинявших, бурых
громадах скал... Не смялся, не пожух,
взрываясь из глубин, нежнейший пух
на крупах гор, на задубелых шкурах.
Ласкаешь спины валунов понурых,
и, может быть, твой сладострастный нюх
учуял темных вод привольный дух,
их ток сокрытый в подземельях хмурых...
Мох верный, ты, как мягкий, теплый мех,
укутал гору, стал покорной тенью
любых ее капризов и утех...
Подобен молчаливому прощенью
былых грехов в тот час, когда на всех,
живых и мертвых, низойдет забвенье...
* * *
Гора, твоим величьем взор смущен...
Но нежно он скользит вдоль плавных линий,
покуда, цвет переменив на синий,
не перельются травы в небосклон.
Над лугом и долиной вознесен
ты, милый тополь, не слепой гордыней;
тебя приветствуют вершины пиний,
и дружелюбен тихий шепот крон.
Ручей, с тобой беседуя, стремится
так приглушить журчание свое,
чтоб слышно стало, как поет цикада;
дрожит роса на ветви винограда,
и в несказанной малости ее
небесный диск охотно умалится.
* * *
Ты, радость мне знакомая, едва
виднеешься за изгородью сада;
прозрачны струи твоего наряда -
текучая, бессильная листва.
Пускай бессильна, но всегда жива
извилистая воля водопада.
Среди оттенков сумрачного ряда
зеленые мелькают острова.
Другая радость лишь тебе знакома:
рыдать плакучей ивой на ветру
древесными сухими волосами.
Печаль — когда безмолвие ветрами
не освежает вялую кору
и ветви застывают невесомо.
* * *
Твой путь в ночи на колдовство похож,
внезапное падучее светило,
покуда тень тебя не поглотила,
в которой ты отверстие пробьешь.
Неизреченность, ты минуты ждешь,
как гусеница, что пока бескрыла, —
ты щупальца свои в меня пустила
и внутренности жмешь, бросая в дрожь.
И дно мутишь; и в этой мути слово
захлебывается, и странно вдруг
язык чужим становится при этом.
Но небо обретет себя с рассветом,
земля землею станет, звуком - звук,
и плач, и смех. И солнце — солнцем снова.
* * *
Земля — недвижность мертвенная днем
и ночью. На невидимых опорах
покоится она средь вихрей скорых
в круговороте звездно-огневом.
Бушуют ли ветра, гремит ли гром,
звучит ли волн ночных немолчный шорох,
иль волны света в радужных узорах
просторный заливают окоем, —
она недвижна. Но пока я буду
произносить "сегодня", во "вчера"
"сегодня" обратится. В липкой глине
твоей, земля, — кровь, гной, прах, тлен повсюду.
Замри, я требую, пришла пора!
И все же вертится она — поныне.
* * *
О Радость, ты, что к сердцу от очей
не движешься, хоть очи не устали
дивиться... Но душа полна печали,
когда ты пляшешь в зелени ветвей.
Безоблачное небо все синей,
и от чрезмерной, бесконечной дали,
от красоты избыточной едва ли
не меркнет ясность самых светлых дней.
Ни летний полдень, солнечным уютом
ласкающий, ни дружеский привет
отрады спящей в сердце не разбудят, —
и к лучшему. Тем беспечальней будет,
глаза мои, покинуть этот свет:
ведь час пробил и счет идет минутам.