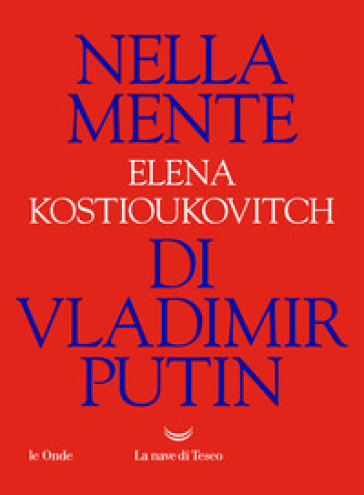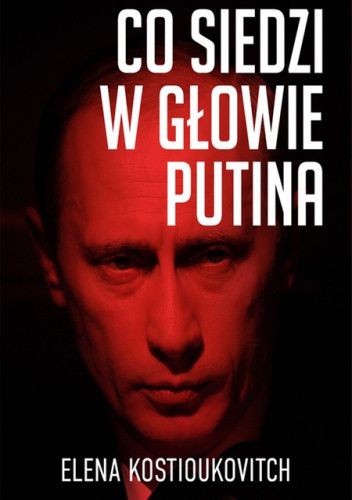http://polit.ru/article/2012/11/14/kostyukovich/
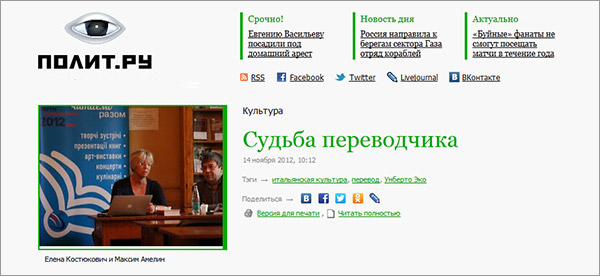
Судьба переводчика
Мы публикуем стенограмму публичной беседы с филологом и переводчиком, специалистом по итальянской культуре, переводчиком книг Умберто Эко Еленой Костюкович, прошедшей в рамках работы стенда «Книги России» Львовского форума издателей 2012 года. Беседу ведет главный редактор издательства БСГ-ОГИ поэт и переводчик Максим Амелин.
Максим Амелин: Довольно большая аудитория у нас собралась. Так как тема переводческая, и мы с нее, наверное, начнем. Я хотел бы такой вопрос задать: как пришла идея перевести «Имя розы» на русский язык в советское время?
Елена Костюкович: Спасибо, я сейчас отвечу. Но сначала мне бы поблагодарить вас за то, что вы пришли, и спросить, с кем мы будем беседовать сегодня вечером... Сегодня днем!
Максим Амелин: Днем.
Елена Костюкович: Вы – студенты, это университет, да, в основном? То есть аудитория, к которой я в Италии привыкла. Я преподаю в Миланском государственном университете. И счастлива всегда возможности общаться с людьми, которые меня значительно моложе и которые видят проблемы, в том числе - переводческие, с новой точки зрения, в другом ракурсе. Потому что, если захотите, мы с вами можем поговорить, в частности, о том, как влияет эпоха на характер работы переводчика, и как влияет возраст переводчика на работу переводчика. Когда я была в вашем возрасте примерно, последние курсы университета, во мне храбрость неуемная какая-то была, профессиональная, и нахальство невозможное. Мне казалось, что надо переводить исключительно самые крупные на свете вещи, потому что все переводы, которые я видела, они либо мне казались устаревшими, либо …. Ну, в общем, это действительно была странная эпоха, казалось, что ты можешь все сделать, можешь все перевести. Единственное, что я никогда не думала трогать, - это «Божественную комедию», перевод Лозинского на русский язык. Хотя потом в своих беседах с очень известным и очень глубоко мыслящим коллегой, переводчиком Владимиром Сергеевичем Муравьевым, о котором я могу отдельно рассказать, если вам интересно, я услышала такой разгромный анализ «Божественной комедии» Лозинского, что я подумала, что даже и это, значит, тоже можно было б улучшить, сделать по-другому.
Сейчас отвечу на вопрос Максима Альбертовича, почему «Имя розы». Ну как, ну потому что это было творение самого известного ученого в Италии, заметьте, не писателя, тогда – ученого. Умберто Эко был известен как специалист по истории, философии, истории культуры, истории нравов. Даже написал биографию мастера такого разговорного жанра, телевизионного; Майк Бонджорно – это человек, не заслуживавший монографии, тем более, написанной Умберто Эко. И парадоксальным образом эта вещь Умберто Эко очень интересная, живая, она не умерла до сих пор. Там рассказывается и описывается, каким образом коммерческое, глуповатое, вульгарное телевидение влияет на психологию массы, а масса потом действует и в политическом смысле определенным образом, народ выбирает определенных лидеров, потому что он зомбирован. Я специально употребила слово «зомбирован», потому что знаю, что в нынешней русской прессе оно используется для обозначения определенного воздействия телевидения на умы. В мои времена не было такого слова, как не было и многих других слов. И тут мы подходим к вопросу. Просто я вам сейчас представляю такие наметки возможных ваших вопросов. Вот мы подходим к теме, например: что должен делать переводчик, который видит, как меняется язык. Я слежу за изменением русского языка издалека. Я не живу в России. Я живу в Милане.
Максим Амелин: Больше 20 лет.
Елена Костюкович: Двадцать шесть. В моем сознании русский язык остался на уровне 1986 года, не 1886 года все-таки, но ненамного свежее. Вчера с товарищами мы говорили, и я сказала: «Ты подумай, в моем восприятии изменение речи русской, изменение реальности России, Москвы, вашей жизни, такое же, как наблюдал бы уехавший в 1919 году эмигрант, приехавший в Россию в 1945 году. Вот они, 26 лет, понимаете? То есть, короче говоря, вы можете себе представить, какая пролегла пропасть между тем русским языком, который помню я, той Москвой, между теми прочитанными публикой книгами - и тем, что люди в России читают сейчас. Для переводчика очень важно понимать, что сделал со своим собственным интеллектуальным горизонтом читатель без него. Вот он ему что-то дает, переводчик, он что-то приносит. Но он должен понимать, что читатель успел за это время в себе наработать. И все эти очень интересные нюансы для работы переводчика в моем случае, они заострены... они, вернее, выявлены, нюанс не может быть заострен! Кстати, переводчик всегда должен проверять внимательно, что он делает с метафорой. Если он говорит «нюанс», то он не должен говорить «заострен», он должен говорить, скажем, «высвечен».
Так что я сейчас ответила частично. Вот представьте себе, когда стал выходить перевод романа «Имя розы», который вам, вот я уже не знаю, очень мил, интересен, или уже всем неинтересен? Это тоже мне нужно бы знать... Когда я делала перевод, роман Умберто Эко для России, это были, повторяю, 1986-1987 годы, роман сработал, как бомба. Это было что-то для меня неожиданное, для автора неожиданное, для публики неожиданное, успех этой книги. Конечно, поддержанный фильмом. Разумеется, имел значение и фильм, который, может быть, вы смотрели. Фильм Жан-Жака Анно, снятый с хорошими актерами, среди которых в роли Хорхе из Бургоса, который монах-убийца, как вы, может быть, знаете, это Шаляпин, это сын Федора Шаляпина, это русский артист.
В общем, имели значение все эти очень интересные импульсы, идущие от окружающей культуры, даже не от самого текста. Плюс политический контекст, в который тогда это попало. Книга вышла в тот момент, когда еще нельзя было говорить о советском вторжении в Чехословакию. Книга начинается строчками: «Я пишу этот роман в Праге, в несчастный город входят советские войска». Из-за этого ее нельзя было публиковать. Цензура запрещала. Когда осмелились... Но перестройке все время какие-то пределы отмеривали. Первые знаки гласности, вы помните, Максим, в 1986 году осмелились упомянуть имя Гумилева. В журнале «Огонек», в юбилейном ленинском номере…
Максим Амелин: Да.
Елена Костюкович: Упоминание о расстреле не прошло, там не сказано. Ну, и как символ гласности разошелся тираж апрельского «Огонька» с Лениным на обложке, разошелся тираж в полтора миллиона. Потому что внутри был Гумилев.
Я помню и другой род смелых упоминаний – в научной, малотиражной прессе, только для своих. Там тоже, конечно, нельзя было упоминать никаких писателей запрещенных, или недозволенных, или нелюбимых властью, или предполагавшихся, скажем так, слишком свободными. Их нельзя было упоминать. В тартуском сборнике «Вторичные моделирующие системы» была статья Михаила Юрьевича Лотмана о поэзии Федора Годунова-Чердынцева, помните? То есть о стихах героя романа Набокова «Дар». Стихи анализировались набоковские, но настоящий автор не был и не мог быть назван. Так через имя персонажа можно было подать знак, возбудить память. А это означало, что публика, что твой предполагаемый читатель также что-то такое знает.
Мне очень интересно говорить на эту тему в библиотеке. Я сама работала тогда в Библиотеке иностранной литературы в Москве. И у нас был спецхран. И в этом спецхране, между прочим, я нашла «Имя розы». Это тот роман, который я потом перевела.
Соответственно, это такая матрешка смыслов, значений и образов той эпохи: одно вложено в другое, и тогда всем это было очень важно. Мне звонили люди самые разные, был очень большой интерес. Звонили читатели, звонили люди, с которыми я один раз в жизни поговорила в этот момент, но до сих пор помню некоторые разговоры. Звонили и Юрий Михайлович Лотман, и Арон Яковлевич Гуревич. То есть вдруг я почувствовала, что действительно удалось сделать нечто, что интересовало всех. Переводчик, конечно, должен к этому стремиться и надеяться, что когда-нибудь в жизни ему попадется в руки такая волшебная вещь, которая сконцентрирует в себе не только его собственную силу, но и силы и интересы других людей. Вот, собственно, это и есть счастье для переводчика. Поэтому на первый вопрос я вам постаралась ответить, и одновременно какие-то приблизительные крючки развесить, за которые вы можете цеплять свои вопросы.
Максим Амелин: Вот, Елена Александровна родилась в Киеве. И прожила там 18 лет?
Елена Костюкович: Десять.
Максим Амелин: А это киевское, условно говоря, детство, оно как-то повлияло на твой выбор профессии?
Елена Костюкович: Это замечательный вопрос, замечательный. Это происхождение мне очень помогло. Понимаете, в то время культура была в Киеве. Я не могу ничего сказать о Львове, ну или только в архитектурном смысле, я только глазами могла пока что видеть. Я его впервые вижу. Еще суток не прошло, как я его вижу. А Киев в шестидесятые годы я помню. Киев воспринимался моей семьей как сосредоточие давления цензурного, кагебэшного, вмешательства в личную, интеллектуальную и душевную жизнь человека. Это я прекрасно помню. Мой дед, писатель Леонид Волынский, и его близкий друг Виктор Платонович Некрасов, с которым они каждый вечер общались, и я это, слава богу, могла наблюдать, - они говорили только о том, когда же наконец в Москву, вот когда мы попадем в Москву. Там, конечно, та же советская власть, но она не такая. Когда в Москве «стригут ногти» - это называлось, в Киеве «рубят пальцы». Так они говорили. Вы, наверное, это выражение слышали.
И поэтому для меня переезд из Киева в Москву означал избавление от несвободы, приближение к большей свободе. Все было очень относительно. Потому что потом мой отъезд в Италию из еще Советского Союза тоже воспринимался как приближение к свободе из несвободы. То есть я дважды перепрыгивала. Помните, в книге «Хижина дяди Тома» есть образ, как негритянка, убегающая из южных штатов в северные, бежит по льдинам, перепрыгивает с одной льдины на другую? Вот, если вы не помните, если в детские книжки в вашем поколении уже не включаются вот эти вещи, не читали в детстве эту сцену - мне страшно жаль, потому что это на всю жизнь. Это дает столько эмоций, понимаете, ощущение необыкновенного сосредоточия человеческого момента в одной художественной сцене. Это простенькая книга «Хижина дяди Тома», но я помню бегущую с негритенком на руках рабыню, которая перескакивает на последнюю льдину, оставляя кровавые следы, она босая. И Миссисипи несет себе дальше лед, а она уже на северном берегу.
Вот ощущение отъезда тогда было таким, и из Киева в Москву. Ну, немножко я приукрасила, это мое детское восприятие, я тогда была ребенком. И в Италию когда из Москвы. Значит, что киевское детство могло оставить? Оно могло оставить чувство языка. Украинский язык не использовался в моем быту, в моей семье, в школе не было украинского языка практически, там было только два урока в неделю, школа была русская.
Максим Амелин: Ты мне Шевченко вчера наизусть страницами шпарила.
Елена Костюкович: Вот видишь. Шевченко застрял в памяти, повторяю, у человека, который не хотел учить украинский язык. Но застрял. И я читала вчера Максиму, да. Я долго могу. Потому что поэт хороший, потому что фонетика языка изумительная, потому что такой язык богатый, он дает возможность для переводчика очень много сделать. Знаете почему? Украинская фонетика включает в себя звуки почти всех европейских языков. С русским труднее, там, допустим, нет «дж» вот этого украинского в слове «джерело». А итальянский основан на «дж». Поэтому когда ты переводишь стихи, то украинский язык дает больше возможностей приблизиться к звучанию оригинала.
Так вот, от киевского детства осталось чувство языка, насколько возможно. Поверьте, я вовсе не выдаю себя за знатока украинского языка, я уехала, когда мне было 10-11 лет, и притом что, повторяю, ужасно не хотела учить украинский язык. Тем не менее осталось интуитивное чувство, и оно дало возможность подойти к старославянскому. Оно дало возможность черпать из сокровищницы украинского языка, переходя дальше еще в его пра-, скажем так, существование и вытаскивать старославянский, который был необходим для всех текстов, имевших отношение к религии, в том числе к католической религии. И это знание имело в советскую эпоху особую ценность. Почему? Просто потому, что церковная лексика в СССР, во-первых, была запретной, во-вторых, она была никому не известной.
Для меня, человека материалистических убеждений, не имевшего никакой прикосновенности к вере и к культу веры, то есть к ритуалу православному, для меня употребление цитат из Писания было чем-то вроде политической бравады, как для всех нас тогда. Просто-напросто, если ты знаешь Евангелие, ты уже тем самым говоришь, так скажем, комсомольскому комитету, что ты другой. Это было не связано с верой. У других было связано, были кружки людей, которые очень в тот момент ушли в веру, как мы знаем. Но как бы было и то, и это. Я принадлежала к светской линии знатоков Евангелия. И, понимаете, и вот узнаешь, запоминаешь, поражаешься красоте и емкости этих выражений, поражаешься тому, насколько тебе это понятно благодаря украинскому языку. И вытаскиваешь их, и вставляешь снова в этот самый язык, уже вырабатывая аналоги католических текстов, потому что лексиконы православия и католицизма - они разные. Идешь как первопроходец по этим колючкам. Сталкиваешься с косностью, с закрытостью некоторых сред. Например, приходишь к батюшке, спрашиваешь совета, как правильно выражаться, что делать, скажем, с выражением «дух дышЕт, где хощет», потому что я хотела по-церковнославянски «хощет» и «дышЕт», а не «дышит». Идешь к священнику проверить. Священник прежде всего сказал: «А на каком основании вы вообще смеете это делать?» - поразив меня тем же самым лексиконом и тем же самым подходом, которым у нас комсомольский комитет у нас прорабатывал. Я сказала, что смею, что я держу в руках латинский текст, я хочу правильно его перевести, чтобы звучало по-церковнославянски. Библий тогда не было в свободном обращении. Проверить негде было. Ну, он усомнился в моей способности, тем не менее, все-таки что-то сказал, сказал, что «дышет».
Дальше пошла война с корректорами. Ну, это я вам уже не рассказываю, вы можете вообразить, что такое был корректор, как и редактор, в советские времена, при социалистическом способе мышления, при огромной власти, которая была у любого человека, у которого в руке карандаш. Это было нечто. Это была тетенька обычно, загораживавшая собой проход в профессию. Она стояла, уперев руки в боки, и говорила: «“дышит” пишется». Я говорила: «Да, я понимаю. Поверьте, что я знаю. Но тут надо “дышет”». В общем, цензуру пробивали, редакторов уговаривали. Имели, правда, очень мало проблем с литературными правами, поскольку в Советском Союзе издатели на пиратских основаниях нередко публиковали все, что могли.
Поэтому идея, что мне нужно было бы попросить разрешения у Умберто Эко переводить его книгу, мне в голову не пришла. Хотя я была из писательского окружения. Но так как я знала, что моих взрослых друзей, друзей моей семьи, печатают за границей совершенно не спросясь, то я была уверена, что и мы как-нибудь это устроим. И перевод был сделан. Он стоил трех лет работы, параллельно с работой, ну, с работой в….
Максим Амелин: В библиотеке.
Елена Костюкович: В библиотеке, да. Но сделан он был безо всяких каких бы то ни было разрешений и договоренностей, он был просто исполнен, и был в издательство отнесен. В тот момент, повторяю, перестройка давала надежду, что за Гумилевым будет что-нибудь еще. И вот, в конце концов, опубликовали в журнале «Иностранная литература» текст со всем его замечательным началом, где написано: «Я пишу в городе Прага, туда входят советские войска, и город этот несчастен». Мне говорили: «Ну не могли бы вы просто написать, что в город входят войска?» Я говорила: «Моя переводческая совесть мне этого никак не позволяет сделать». Смех состоял в том, что переводчика, конечно, совесть должна побуждать все эпитеты сохранять, в то же самое время я могу вам гарантировать, что в «Имени розы» было достаточно много эпитетов, которые я, допустим, не перевела, поставила в другое место. И что, в общем, переводческая совесть могла бы позволить. Не позволяла моральная совесть. А это было уже другое дело.
На первом съезде переводчиков Эко были такие ноты... Слово съезд слишком торжественно звучит, как будто бы кто-то, какая-то надменная сила уполномочена всех собирать. Нет, это не так. Это было в 1988 году, в городе Триесте.
Максим Амелин: Это был первый съезд?
Елена Костюкович: Первый. Мы все друг друга увидели. Кстати, город Триест – это город центральной Европы, город бывшей австро-венгерской империи, город многоязычный. В какой-то мере, я думаю, есть какие-то довольно значительные аналогии между Львовом и Триестом, безусловно …
Максим Амелин: Австро-венгры.
Елена Костюкович: Ну, да. Я там преподавала в университете. И публика была очень интересная. Очень многообразная. Оттуда, кстати, очень много выходов на международные организации. Ну, Брюссель, Европа, Страсбург. Туда нередко берут работать переводчиков из вот этой самой Триестской школы синхрона. И не случайно именно в Триесте проводился этот съезд. Так вот, на первом съезде были переводчики из пятнадцати стран, те, кто перевел Умберто Эко «Имя розы». Тогда у Эко был только один, вот этот роман. Это сейчас их шесть. Когда мы съехались, как раз вышел второй роман - «Маятник Фуко». И нам всем дали эту книгу в руки и сказали: «Вот раз вы все себя хорошо зарекомендовали, теперь это ваше, теперь действуйте, действуйте - и переводите дальше». Мы были все молодые, достаточно многие были молодые. Я была, по-моему, была там самая мелкая по возрасту, мне было 27, нет, меньше.
Максим Амелин: Меньше.
Елена Костюкович: Ну, в общем, что-то в таком духе. Были вот венгр, Имре Барна, который после этого уже побывал и культурным атташе в Италии, стал большой фигурой, стал директором большого издательства в Будапеште, «Европа». Мы до сих пор видимся, встречаемся. Этот венгр мне сказал: «Ты сумела напечатать фразы?» - я сказала: «Ну конечно, Имре, а как же еще печатать?» Он сказал: «Я в конце концов эти фразы сдал». То есть он в конце концов разрешил вычеркнуть - не Умберто Эко разрешил вычеркнуть, который знать не знает венгерский, и никогда не поймет, а Имре Барна. А я гордо на него посмотрела и сказала: «Вот, Имре, что значит выносливость».
Максим Амелин: Упорство.
Елена Костюкович: Упорство, ну да. Хорошо.
Максим Амелин Да, вот хотелось бы про эти сообщества переводчиков - поподробнее ты можешь рассказать?
Елена Костюкович: Могу.
Максим Амелин: Действительно, происходит такое, с этого началось - или до этого существовало такое, условно говоря, сообщество вокруг писателей и переводчиков, которых призывают, они друг с другом общаются, и делятся, и переписываются, и смотрят, как кто там перевел. И автор уже в какой-то мере дает как джазмен джазовую такую импровизацию - вернее, не импровизацию, а тему, а переводчик фактически становится соавтором джазовым таким. Вот просто про этот вопрос.
Елена Костюкович: Я конечно, думаю, нельзя так поступать. Мы дружим... А никто ничего никому не советует. Понимаете что, смех смехом, вот вы профессионалы, думаю, вы люди, связанные с этим ремеслом. Как можно советовать, что и как кому на свой язык переводить? Хотя, конечно, очень хочется разделить опыт. Но разделить опыт переводчика невозможно. Тем более,что очень мало кто может прочитать работу другого. Хуже всего венгру, Имре Барна: мы – никто! - ничего не можем в его работе понять, не можем использовать ничего. Венгерский – это закрытая книга. Многие из нас сверяются с Буркхартом Кребером, это немецкий переводчик, он перевел двадцать книжек Эко.
Они интересные люди, безусловно. С ними ужасно приятно, с ними ужасно интересно и радостно иметь знакомство. Буркхарт – это денди, красавец, замкнутый очень человек, сидящий над каждой книгой по 2-3 года. Ну я тоже по стольку сижу, но с разницей, что я в это время еще и многое другое делаю. А Буркхарта селят в лес. У него там хижина. В лесу сидит переводчик и переводит роман Умберто Эко. Потому что в Германии вокруг этих изданий денег очень много крутится вокруг. Издательство Хансер управляет этими бестселлерами - много продают экземпляров, дорого стоит, большие авансы. Короче говоря, они могут создавать условия….
Максим Амелин: Для переводчика.
Елена Костюкович: Да. А он человек задумчивый, одинокий. Любит сидеть в этом своем доме. Когда он, наконец, кончает свой перевод, не то что мы советуемся, но я знаю одно - что он мне его просто по дружбе обязательно пришлет. И я вижу, что он делал во всех сложных местах, которые для меня сложны. Вижу. Ну и что? а ничего. Я это использовать не могу. Я могу ему написать. Я ему пишу: «Буркхарт, вот ты не стал это ругательство переводить». Вот я кручусь вокруг этого, придумываю ругательство какое-то, довольно заборное, грубое, но не прямой мат: мат я не буду употреблять, и пока я существую, буду соблюдать в переводах этот принцип. Может быть, в собственных писаниях могу написать любое слово, если надо, но не смогу никогда употребить его в переводе, потому что грубость русского мата совершенно не соответствует изяществу итальянского. Поэтому говорю: «Буркхарт, вот ну ты что сделал?» Он отвечает: «Ну, ты же знаешь, у нас вообще ругательств нет, у нас ничего нет, кроме “Доннерветер”».
Но зато, найдя какую-нибудь ошибку… Вот я вам расскажу, что случилось в прошлом году. Когда Умберто Эко написал последний свой роман, называется «Пражское кладбище», я очень советую вам прочесть...
Честно говоря, это не великая книга, даже могу сказать – это плоховатый роман. Но он важен и интересен. Я от себя гарантирую вам. Поэтому, не ожидая, что это будет откровением, не ожидая, что чтение наполнит вас невероятным восторгом, я считаю, вы можете ждать, что эта книга наполнит любого читателя мыслями. Там многие вопросы поставлены в достаточно остром и интересующем всех разрезе. Роман идейный - об антисемитизме, о «протоколах сионских мудрецов». И роман исторический, в сюжете - Парижская Коммуна. Очень художественно интересно сделанный, написанный от лица мерзавца. Поэтому, когда я переводила, мне нужен был стиль такого жуткого гада. Этот стиль очень трудно сделать, вы знаете. Тем более если ты человек хороший, то, в общем, это не очень у тебя получается. И к тому же все время опасаешься, что сползешь в карикатуру. И автор скажет, и читатель, естественно, тоже скажет: зачем вы так сильно сгущаете краски? Работа переводчика – это вообще работа на нюансах. Ну, об этом мы еще поговорим.
Так вот, «Пражское кладбище». Герой живет на определенной улице в Париже. Но если в прежние времена… Да, кстати, тут вот что надо уточнить. Когда я переводила «Имя розы», в восемьдесят четвертом, для меня не то что поехать посмотреть на аббатство, как оно устроено... Да что вы, да представить себе вообще, что оно существует, это аббатство – было невозможно. Пересечь границу Советского Союза было непредставимым, абсолютно нереальным деянием. Я не понимала, как можно представить себе поездку в Италию. Ну, сейчас, сознаюсь, для меня поехать в Париж, в общем-то, можно. Я живу в Милане, Париж на расстоянии шести часов поездом. Я это делаю по работе иногда. Поэтому я двинулась туда и пошла на то место, где происходит действие. Это не показатель каких-то особенных моих исследовательских подвигов. Это просто облегчение жизни для себя. Вместо того, чтобы пытаться это пространство себе представить, ты приходишь на место, которое описывает Эко, озираешься - и тебе становится легко переводить движение. Именно движение. Тут он, допустим, пошел, а там побежал. Движение. Глаголы движения в русском не имеют соответствия в большинстве европейских языков. Необходимо всегда придумывать: пошел, побежал, полетел, поплыл.
Ну вот, знание ландшафта помогает определить способ, которым герой перемещается. Если ты понимаешь, какое расстояние отделяет героя от места, куда ему нужно попасть, ты можешь писать совершенно спокойно, «прыгнул» он куда-то, «рванулся» - или «побежал», или, наоборот, «поплелся». То же самое и с правой и левой сторонами: куда он косо глянул, а куда он всю голову выкрутил, ну, в общем, подобные вещи.
В общем, на месте действия надо побывать. Поэтому я туда приезжаю и обнаруживаю одну вещь. Первое: что этой улицы во время действия романа не было. То есть когда герой на ней жил, она не могла так называться, как я это обнаруживаю. Просто Умберто Эко уже немножко постарел, или что я не знаю там с ним случилось, потому что такие вещи он бы мог без меня выправить, честно скажу. Ну, это очень просто. На этой улице в Париже есть табличка, что это улица какого-то там Ле Гранта, сейчас не помню, неважно. Архитектор, стоят даты жизни. Поскольку архитектор жил на свете позже, чем происходит действие романа, то вам всем прекрасно понятно, что этого не может быть. Не может герой в ХIХ веке жить на улице комбрига Котовского.
Максим Амелин: Анахронизм.
Елена Костюкович: Да, это анахронизм. Значит, этот самый анахронизм я с негодованием для себя отмечаю, и дальше пытаюсь разобраться, как устроен дом, в котором жил герой. Меня внутрь дома никто не пускает, естественно. Но я туда и не рвусь. По окнам все понятно.
Кстати, если вы, кто-нибудь хотя бы из вас является любителем Умберто Эко, хорошо знает его произведения, то могу вам открыть одну такую маленькую дверцу в его творческую лабораторию, если вы сами этого не заметили. В каждом из шести его романов герой снаружи, по расположению окон, пытается понять внутреннее устройство некоего строения. То есть библиотеку, например, в «Имени розы» герой осматривает снаружи. Более того, именно заложено в правила игры, что он туда никогда внутрь не попадет, но он методом дедукции по внешнему виду дома определяет, каково в доме внутреннее устройство.
И я обошла вокруг дома, где живет герой Умберто Эко, и могу вам гарантировать, что так, как он там пишет, ничто ни с чем не совпадало, то есть вообще - ну никак! Ну, если одно окно выходит на лавочку, противоположное окно не может выходить на Сену, потому что лавочка – на набережной Сены.
Возвращаюсь в Милан, пишу письмо Умберто Эко, что, мол, так и так. В это время уже сидят переводчиков шесть над готовыми экземплярами, остальные переводят. По миру распространяется зловещее письмо, написанное Умберто Эко. Оно звучит так: «Когда Елена Костюкович, наконец, соизволила найти ошибку в моем описании, то уже, к сожалению, на нескольких языках роман вышел. Интересно, куда она раньше смотрела?»
Я до сих пор не могу смириться с несправедливостью этой склочной записки.
Ну, конечно, записка это шуточная, и насчет «не могу смириться» я тоже шучу.
Тем не менее во втором итальянском издании все было исправлено. В русском издании было исправлено сразу. Название улицы теперь фигурирует в без анахронизма, а так, как эта улица назвалась раньше. И геометрия квартиры героя выправлена, что-то убрано, что-то добавлено.
Вот понимаете, что, собственно, происходит вот такой контакт между переводчиками, в частности, да. От переводчиков посыпались письма, которые писали: «Елена, как хорошо! Я действительно недоумевал, что вот если он в этой комнате находится, то как же он в другую переходит?»
Понимаете, я почувствовала, что внимание к этим деталям, к технике описания, вот на этом эпизоде я почувствовала, конечно, у переводчиков пристальнее, чем у автора. Автор создает мир. Автор создает мир и движет, он создает геометрию мира, он задает ритм своей прозы, он дает ей возможность дышать какими-то определенными вдохами и выдохами - сильными, слабыми, длинными, короткими. Все это делает автор. Переводчик абсолютно перед этим делом, так сказать, никто. Он получает, в общем, созданную уже художественную мощную такую данность.
Но потом, когда начинает работать переводчик, все это дело куда-то укладывать, пытаться, чтобы все обязательно соответствовало, боясь, что его заподозрят в том, что несоответствие – это его ошибка, - вот тут и начинается перепроверка этого мира на прочность. Ведь переводчик часто, если литература в чем-то заслуживает критики, он этот критику сам проводит. Он понимает, где пресно. Он понимает, где длинно. Он понимает, что эпитеты друг с другом плохо согласуются.
И тут перед ним встает выбор - вот это как раз одна из интересных проблем для семинаров: вольность или буквализм. Что делать, когда ты видишь, что что-то могло бы быть лучше? Я спросила у Гаспарова в свое время, у Михаила Леоновича: «А если я нахожу ошибку, ну, или во всяком случае большой минус какой-то в переводимом произведении, должна ли я стараться улучшить?» На что он сказал: «Так как вы и любой переводчик своим вмешательством в текст его постоянно ухудшаете, то там, где вы можете, попробуйте улучшить». Понимаете? Это был ответ достаточно ехидный, и, конечно, справедливый. Потому что перевод в любом случае гораздо хуже оригинала.
Максим Амелин: Ну, подожди, существуют же такие переводческие забавнные истории про то, как иногда бывает, что перевод лучше оригинала?
Елена Костюкович: Я понимаю. Вот Джанни Родари – он известен больше в России в прекрасном переводе Златы Потаповой. В Италии он практически неизвестен…
Максим Амелин: Как, а «Чиполлино»?
Елена Костюкович: Я помню, что приехал в Италию какой-то русский писатель, и он говорил «Чиполлино» - и никто его не понимал: «Что ты мне сказал?» - и гадали: «Ему нужен лук? Ему очень нужен лук?»
Нет, ну вы знаете, они другие. Я хочу сказать, что удачные переводы – это просто другие книжки. Например, «Винни-Пух». Ну вот смотрите, в «Винни-Пухе» в прекрасном переводе Заходера. В переводе некое количество неправильных вещей, которые на самом деле нарушают смысл единство произведения. Например, Сова должна быть мальчиком. Ни одно имя животного в английском не имеет рода. Все животные – it. Русскому переводчику приходится решать, присваивать пол герою. Но Сова – это пародия на ученика английского колледжа, закрытой школы. Он студент-зубрила. Он на всех картинках английских изображен в виде мальчика. И Багира, кстати, - это мужик.
Максим Амелин: Это не «Винни-Пух».
Елена Костюкович: Ой, да, это мой мозг куда-то уплыл, извините. Да, ошибка. Ну, в «Книге джунглей», да и в диснеевском мультфильме Багира – это мужик, это фронтовой друг медведя Балу. У них отношения между собой, как у боевых товарищей, мужская дружба. Вот все эти вещи – это отход от смысла оригинала. И тем не менее имеется – потрясающая, прекрасная книжка «Винни-Пух» на русском языке. Она прекрасна. Она другая. К ней приложен сделанный в России мультфильм. А к тому настоящему, оригинальному английскому тексту приложен другой мультфильм «Винни-Пух».
Максим Амелин: Диснеевский.
Елена Костюкович: Диснеевский, который божественно прекрасен. И советский очень хороший, Леонов озвучивает.
Переводчиков может быть на одну и ту же книгу много. Тот факт, что романы Умберто есть только в моем исполнении, плюс один пиратский, изданный на Украине, неизвестно кем выполненный...
Максим Амелин: Говорят, что это Кормильцев.
Елена Костюкович: Я не верю, Кормильцев талантливый был человек.
Максим Амелин: Я его спрашивал, он не признался.
Елена Костюкович: Не могу поверить. Во-первых, этот аноним сделал некорректный поступок, свою фамилию зачем-то утаил. Поэтому читатели думают многие, что это я... И второе, Кормильцев был талантливый человек, он сделал бы лучше, так что я думаю, что это не он.
Но в любом случае это классическое пиратство, связанное с обстоятельствами, достаточно неприятными в моей жизни: я не могла работать, у меня болел ребенок очень сильно. И завалила сроки, и в издательстве не могли выпустить. И тут началось веселье на всех, можно сказать фронтах, поползли какие-то альтернативные переводы того, что я должна была сделать. Это не только один Эко. Кроме Эко, еще один, что неприятно, перевод существует, из-под меня сделанный. Потом ребенок выздоровел, я сделала нормальный перевод, но читатели приходят все равно за автографами на пиратский.
Почему тот плох? Потому что неточный. Потому что не с итальянского, а с польского, это чувствуется. Транскрипция иностранных имен дана по польскому типу. Бред. Хотя мог бы вполне существовать второй, не мой, неплохой перевод, с другими принципами. Я даже готова признать, что не так уж необходимы некоторые мои фокусы, особенно именно в «Маятнике Фуко». Я имею в виду конкретный вариант, свой первый. Потому что я его переписала сейчас. И теперь уже второй. Сейчас вышел в издательстве «Корпус» в Москве новый переделанный мой перевод, чего, конечно, никто не заметит. Я уверена, что никто не начнет читать и сравнивать. Но я сама знаю, что теперь строение текста облегчено, что метафорика стала легче и проще, язык почище. Это я все сделала для нового издания.
Максим Амелин: Зачем?
Елена Костюкович: Для себя. Просидела два месяца, переписывая уже давно известный всем перевод, который получил, кстати говоря, несколько премий и считается хорошей работой. Но я села и переписала сейчас. Потому что время прошло. Потому что новые читатели. И я сделала книгу легче. А в те времена был тяжеловесный перевод. Но оригинал тоже очень тяжело читается, поэтому нужно было делать какой-то все-таки аналог, по тому пути идти, который автор указал. С той же художественной усложненностью. Усложненность Умберто Эко в оригинале такова, что, часто не понимая ничего, читатель только улавливает приблизительно, к чему его ведут. Это орнаменталистика чистая. Это вот как на обоях бывают орнаменты, где вы не сразу понимаете, что там вишенки, цветочки там, не знаю. Но вы видите ритмические пятна и полосы. Так пишет Джойс. Вот так вот пишет и Умберто Эко. Особенно «Маятник Фуко». Но переводчик не может же приблизительность отобразить. Он-то должен понимать, какой конкретный смысл каждого слова. Переводчик должен развернуть полностью, размотать вот это кружево мотивов, созданное автором, распустить его на нити, рассмотреть каждую нитку, вот. Если можно, я расскажу про Гаспарова. Михаил Леонович Гаспаров, который был … Макс, как сказать?
Максим Амелин: Ну, а как сказать?
Елена Костюкович: Гений, можно сказать?
Максим Амелин: Великий социологический ум.
Елена Костюкович: Гений, великий социологический ум, да. Это был человек, который определял собой, который воплощал в себе высший эталон научного и творческого качества для нас для всех. И у него однажды была такая ситуация. Мы сейчас с вами говорили о сложной прозе, о том, как надо распутывать, растягивать эти нити, эти основы. Гаспаров столкнулся со сложностью при переводе очень простой басни Эзопа. В басне фигурировали пастух и овца. Весь текст был на этом уровне приблизительно. Овца пошла, пастух за ней пошел, после чего овца, допустим, поворачивала голову и говорила какие-то слова. Басня на этом кончалась. Гаспаров попал в творческий кризис на полгода. И он не мог ее перевести. Это случилось потому, что мы все, кто когда бы то ни было переводил, понимаем: простую прозу переводить гораздо трудней, чем сложную. Если у тебя есть стилизация, у тебя есть терминология, у тебя есть цитаты, ты в порядке. Потому что ты все это решаешь, собираешь в большую кучу, и потом уже, если у тебя есть еще немножко хотя бы художественного дарования, ты пытаешься это звук, дыхание… Даже не то. Выстроить пространственно. Потому что для тех, кто читает последовательно, ты должен расположить все это добро таким образом, чтобы звуки и мысли поступали в нужном ритме, чтобы тебя самого это устраивало, и читателя предположительно устроить должно.
А что делать с простым текстом, не знает никто. Как его переводить? «Приходит пастух в лес и говорит»? «Пришел пастух в лес и сказал». «В лесу пастух»? «Пастух в лесу»? Русский язык до такой феноменальной степени свободен и одновременно принудителен! То есть он дает возможность строить фразы любым способом, но очень жестко нормирует смысл этих построенных фраз, то есть когда ты избрал один вариант из многих, тем самым ты сказал, ты решил. У тебя пастух приходит в лес или пастух пришел в лес - это два разных рассказа, про двух разных пастухов, у них разные лица.
Гаспарову ничего не приходило в голову. Но главное – он не хотел действовать по наитию. Он хотел действовать по системе. И тогда он размотал эти нитки. Он со словарем разобрал басню на хронологические, как бы это сказать, слои. Книжные аттицистические слова замазал красным, вульгаризмы синим. И синее переводил в презенсе, красное в прошедшем времени. Синее прямым порядком слов, красное с инверсией. Сплел разноцветный правильный узор.
Максим Амелин: Грамматико-стилистический.
Елена Костюкович: Да, грамматико-стилистический. Вот. Знаете, что он создал? Подмножества. У него были множества, а он включил в них подмножества. Очень формально нормированные. Это такая кропотливая, не видная никому работа, что совершенно не уверена я в том, что те, кто из вас учится, вы, студенты, вы должны думать, что такие фокусы обязательно надо проделывать. Это высочайший пилотаж, и человек, который настолько к себе критически относится, как Михаил Леонович покойный, что он уже просто не мог пустить себя писать. Но это должно вам, кто из вас здесь сидит и, может быть, пришел, чтобы для себя сформулировать вопросы, а потом давать свои собственные ответы в будущем, еще когда-нибудь, да, вот это должно показать, какие суперсложные требования, какое супертребовательное отношение к себе бывает у самых таких именитых и лучших. У тех, которые могли бы, например, просто интуицией делать свою работу, потому что у Гаспарова, или там у Лозинского, я не знаю, у того самого, кто сейчас считается самым модным переводчиком в России?
Максим Амелин: Голышев.
Елена Костюкович: Ну, вот Голышев, да, совершенно верно. Кстати, он во многих интервью интереснейшие вещи говорит, например, в интервью с Гандлевским, вообще это умнейший человек. Голышев, он вам всем, конечно, известен. Он переводчик с английского языка превосходный, и у него не дебютный, а один из прославивших его очень ранних его подвигов в переводчестве была работа с книгой Роберта Пенна Уоррена « Вся королевская рать», где были найдены звукоритмические модели: «А иногда – он опять шагнул к столу – я сам себе наливаю виски». Это ритмы, которые разошлись, после которых стали писать определенным образом другие люди, многие люди, «а тогда – он опять шагнул к столу, и так далее».
Вот, Голышев, например. Все эти люди могут и могли бы работать на интуиции. Тот факт, что все они тестируют, могут объяснить каждое свое движение, ну, в моем скромном масштабе - я тоже... это означает, что работа мало того, что безумно кропотливая, как сказать, радости от нее мало, неприятностей много, оплачивается плохо, но она еще вдобавок ко всему такая засасывающая. Уже и не знаем, что и придумать. Вот семинары и встречи - ну, казалось бы, перевели, публика довольна, и, в конце концов, не ты писал, не ты ведь автор. А между тем переводчики продолжают для себя создавать сложности и решать вместе их, именно потому, что знание литературы самое глубокое, конечно, у переводчиков всегда. Потому что переводчик это человек, который упорнее всех разбирается и раздумывает о любом - о хронологическом, историческом, географическом - аспектах произведения и о других произведениях, с которыми они в одном бульоне варятся, все вместе. И о языке. И чем больше он знает, тем сильнее его знания засасывают. Ну, кто собирает оловянных солдатиков, хочет знать все про солдатиков, чем дальше, тем больше. Кто реконструирует сцены сражений, это люди, у которых детальное знание амуниции, всех пуговиц. А у переводчика, чем он успешнее работает, чем больше он себе ставит задач и чем больше доволен собой в какой-то мере, тем он, конечно, еще больше работает.
Максим Амелин: Вот смотри, а что все-таки остается за пределами перевода? ведь что-нибудь непереводимое. И как вот с этим? Вот когда сталкиваешься с некими вещами непереводимыми, каковы действия переводчика?
Елена Костюкович: Максим, давай я отвечу - и ты ответишь. Потому что я вообще не знаю, как ответить. Поэтому скажи: если ты придумал вопрос, у тебя свой ответ есть. Максим Альбертович тоже переводчик, он переводчик замечательный, и яркий переводчик, переводчик поэзии, причем эротической поэзии, сложной. Сложной для перевода в России за отсутствием русских образцов.
Ну... а я бы сказала так, что при переводе непереводимым является подразумеваемое, я думала про еду вот эту итальянскую, книжкой подразумеваемое. То есть когда один человек говорит другому: давай мы пойдем есть пиццу. Это означает, что он гораздо ближе с ним дружит, чем если он ему скажет: пойдем есть ризотто.
Максим Амелин: Почему?
Елена Костюкович: Потому что пицца - это еда для друзей. Она пачкает лицо, пачкает одежду. Пиццу можно есть с людьми, которым ты доверяешь. А вот если обед при приеме на работу, если приглашают контракт подписывать, то заказывается ризотто: оно поедается чинно. Это вещь спокойная, она никакого возбуждения не несет, как могут нести некоторые блюда. И это очень интересный аспект, он переводит ризотто в ряд таких четко очерченных условных знаков. Вот зовут вас хорошие люди, что закажем? Ризотто? Вы что, с ума сошли? Какое ризотто? Пиццу давайте! Книга - она не только об этом, там много разобрано разных ситуаций, не про одно это.
Максим Амелин: Да, расскажи об этом.
Елена Костюкович: Непереводимо подразумеваемое, то есть менталитет непереводим.
Максим Амелин: С одной стороны менталитет, раз. С другой стороны, и стиль-то нельзя передать, можно только воссоздать нечто подобное. И то, что говорил Гаспаров: история про раскрашивание - это как раз попытка воссоздания стиля. Понятно, что особенно это касается поэзии. Поэзия, я вообще считаю, что если она и переводима, то насколько переводима, это всегда большая условность. Насколько переводима проза? Я никогда не переводил прозу и никогда не возьмусь за это дело.
Елена Костюкович: Она точно такая же, как и поэзия. Непереводимо ни то, ни другое.
Максим Амелин: Вот есть, например, эротика. На русский язык она практически непереводима. У нас есть русский мат, такой отборный, и есть медицинские термины. А середины практически нет. Насколько беден русский, допустим, эротический язык, это просто представить себе невозможно. В каком языке еще такое может быть? Вот эта табуированность пола в царские времена, в советские времена, она сделала абсолютно невозможное. При этом французские романы и итальянские… И получается какой-то пласт непереводимый. Где для этого отыскать язык? Это раз. Второе, у нас есть высокие стили, на чем можно играть, чего нет, например, во многих языках. В немецком у них нет никакого стиля, во французском у них стиль один - ровный. Вот эта разница языковая, она создает определенные трудности.
Елена Костюкович: Я вспомнила про то, как мы вытрясли из японца, что он делал с переводом «Имени Розы». В какой-то момент на слетах переводчиков Эко все заметили, что сидит в углу японец. Чудный человек. Никто на него сроду не обращал внимания никогда. Он скромный, тихий, японский, он вежливый, а кроме того, он переводит на японский, а мы на нем не понимаем. Поэтому переводчики хлопают друг друга по плечам с криками: «Ну, ты, старик, я видел, что ты там устроил». Я заменила где-то мадам Бовари на Анну Каренину, ну что-то такое могу я сказать. Неважно. Все с восторгом отнеслись, вот молодец Елена, потому что сюда надо было поставить что-то другое, потому что мадам Бовари тут не работала. В общем даже такие изменения все обсуждают. Японец сидит, как будто его нет. Потом в один прекрасный момент я все-таки ему говорю: «Скажите, многоуважаемый коллега, вот что вы делали в стилизации «Имени Розы», где все написано языком как будто бы ХIV века, это неправда, потом язык становится очень современным». Но как-то надо начинать с этого, нота должна быть первая. Язык очень архаичный, я его путем церковнословянского воспроизводила. А японец говорит: «Я употребил очень старинные иероглифы». Слова те же самые, как сейчас, но он их рисовал в особой манере. Это же очень интересно. Ну, кроме того, хотя бы мы дали ему возможность сказать единственную фразу на всех этих семинарах.
Понимаете, перевод вообще имеет смысл, когда переводят то, в чем ты совсем-совсем ничего не понимаешь. Потому что в других случаях надо стараться читать все-таки оригинал, пытаться к нему приблизиться, хотя бы рядом держать. Перевод необходим, если некое явление непостижимо, как венгерская литература. Вот, грандиозный автор Петер Эстерхази, ну что бы я могла о нем знать, если бы переводчик Вячеслав Середа мне его не перевел? Ну, слава богу! Очень счастлива.
А вообще, конечно, перевод всегда хуже оригинала. Хотя я перед вами сижу, переводчик, но я понимаю, все понимают. Я сейчас хочу прочитать один переводик, который гораздо хуже оригинала, но одновременно… Знаете, почему я его хочу прочесть? Он – очень странная штука. Меня в свое время пригласили, кстати, в очень молодом возрасте, где-то лет в 24-25, участвовать в создании абсолютно никому не нужного тома поэзии. По политическим причинам было решено переводить стихи итальянского поэта, который боролся за освобождение от фашистских захватчиков и свою родину хотел освободить. Он из Милана. Никому, в общем-то, не нужный писатель, который писал очень сложными размерами, требующими большой работы: терцинами, сонетами, октавами.
Максим Амелин: На итальянском?
Елена Костюкович: На итальянском. И эти стихи описывали нечто, чего совершенно из нас никто не знал и знать не хотел. Потому что они были чем-то вроде высказывания в политической дискуссии. А дискуссия на тот момент велась такая: это были выпады против каких-то журналистов. Можете себе представить выпады в терцинах? 1841-го года, против журналистов. Этот журналист, порицаемый поэтом, поэтом Джусти, позволил себе сказать про Италию, что «Италия – это страна мертвецов». Все тут морально умерли, а вот Франция – это страна еще живых. И создан такой текст, я его буду читать минуты 3-4, это стихотворение, оно не короткое. Я могу вам сказать одно: вот я сейчас, когда готовилась к выступлению, сказала себе: «Как несправедливо! Вбито в это дело, ну, я не знаю, сколько труда». Никому оно никогда не понадобилось. Никто о нем ничего не написал. Судите сами, такие, по-моему, вещи даже не обязательно делать. Но получились стихи предположительно в сторону братьев Жемчужниковых - по звуку, по ритму, мы можем говорить в данном контексте о воспроизведении языка того времени, ритма того времени, я сама не знаю в чем. Мне кажется, что это удалось, хотя это никому не нужно. Повторяю, что ответ на то, что некий журналист сказал, что в Италии-де все морально мертвые, а во Франции все живые. А эти две страны в это время вели военные действия и друг друга не любили, как и сейчас, впрочем.
Звучит по-итальянски первое:
A noi larve d'Italia,
Mummie dalla matrice,
L becchino la balia,
Anzi la levatrice;
Вот видите Italia и balia – рифмы. Для меня, например, я просто про технику говорю, что мы не можем слово Италия не поставить в ударную позицию в первой строке. Повторяю, никто это не увидит, никто это не сравнит, но такие приемы, они необходимы. Если Италия в ударной позиции, то мы не можем ее убрать, хотя переводчики это делают, потому что потом рифмовать неохота. Ну, неприятно рифмовать что-нибудь сложное, поэтому задвигают.
Мы, жители Италии,
Лишь с виду молодцы,
А в сущности — каналии.
Живые мертвецы,
Напрасно настоятель
Нас окунал в купель,
Святую воду тратил.
Кропивши колыбель.
Зазря, видать, и мамушка
Перинкой крыла нас —
Могильного бы камушка
Достало в самый раз.
Вы, тени без приюта,
Скитаетесь доколь?
Пора вам, баламуты,
В загробную юдоль.
Кому нужны уродины,
Ходячие гробы?
Нам дела нет до родины
И собственной судьбы.
Живой мужчина с виду,
А пальцем тронь — скелет.
Прочли бы панихиду
И — строем на тот свет!
Обширная мертвецкая
Заполнена тоской.
Тут и беседа светская
Звучит за упокой.
Поверх любого чувства
Натянут черный креп.
На поприще искусства
Куда ни глянешь — склеп.
Наш Никколини тлению
Безвинно обречен,
Мандзони, к сожалению.
На полке заточен.
Пропущу кусок...
Увидели бесхозное
Наследство малых сих,
И началося грозное
Нашествие живых
Живых – значит, французов.
Жильцов страны соседней –
Они наперебой
За крохою последней
Припрыгали гурьбой.
Ах, что за жизнь скандальная
Клокочет в их стране!
Полемика журнальная
Гласит о том вполне.
Там пишут, пишут, злятся,
И пестуют вражду,
И заново родятся
Двенадцать раз в году.
Скажите вы, отважные
Посланцы той земли,
Дела какие важные
Вас к мертвым привели?
Запомните-ка, братцы,
Опасен воздух тут!
Пора б самим убраться,
А то ведь — унесут!
Иезуиты-гадины
И сыщицкая рать!
Цензурные рогатины
Пора б от нас убрать.
Поймите вы причину:
Покойник мыслит всласть.
Зачем же в домовину
Кастратами нас класть?
Зачем в страну вторгаются
Австрийские штыки
И нами соблазняются
Австрийские клыки?
К чему столь кровожадно
Взирать на наш скелет?
Ведь это теле хладно,
В нем крови вовсе нет.
С природой что лукавствовать!
У ней порядок свой.
Вам ныне время здравствовать.
Нам — обращаться в гной,
Пропускаю кусок, потому что я чувствую, что оно очень утомляет. И зачем нужно было это переводить? Хотя усердие переводчика здесь большое вложено.
Максим Амелин: Да, я вижу.
Елена Костюкович:
Струяся над оливами.
Вечерний свет зари,
Своими переливами
Забвенье нам дари!
Ну, это рифма, которая была настолько затаскана во времена братьев Жемчужниковых.
Пусть плиты гробовые
Покойно, мирно спят...
Но почему живые
От зависти вопят?
В общем, я просто вам привожу пример советских времен, когда даже подобное большое усилие оплачивалось, когда это требовалось. Сейчас ничего подобного никто не делает. Никому не нужны политические сатиры, разбирательства между людьми, имена которых давно не актуальны. Тогда это заказывали. Все это было пропавшее время, пропавшие силы. Но зато это было поддержание уровня работы. Потому что, понимаете, мы много думали, пока мы делали все это. Сейчас совершенно другие времена. Новая литература должна можно больше читаться в оригинале…
Максим Амелин: Понимаете, нельзя знать все языки на свете. Есть японская литература, китайская, есть французская. В среднем можно выучить два-три языка. Ну пять.
Елена Костюкович: Пять-семь.
Максим Амелин: Ну, в среднем три. Есть продвинутые полиглоты, которые по двадцать языков знают и разговаривают. Поэтому это дело такое. Конечно, нужно знать языки. Но всё все равно не прочтешь никогда.
Елена Костюкович: Так и с переводом не прочтешь. Столько всего пишут, мы не успеваем прочитать.
Реплика из зала: Скажите, а что вы читаете в оригинале?
Елена Костюкович: Конечно, современные бестселлеры. Вы имеете в виду - на что больше внимания? С чем я сталкиваюсь?
Максим Амелин: Ты как агент, да.
Елена Костюкович: Когда проносится по планете бестселлер, он летит, как спутник. Бестселлеры, как правило, - это книги не очень хорошие. То есть, настоящая глубокая литература очень редко становится таким бестселлером.
Реплика из зала: Как «Ешь. Молись. Люби» Элизабет Гилберт называется бестселлером, и фильм снят.
Елена Костюкович: Рипол Классик внимателен к бестселлерам. Рипол Классик нанимает переводчиков, скажу вам откровенно, нередко переводчиков плохих, потому что это быстро можно сделать и денег мало заплатить. Переводчики делают по шесть-семь, может быть, даже пятнадцать страниц в день. У нас выработка, я думаю, не больше одной страницы в день. Дай бог, если целая настоящая страница готовая есть за день. Конечно, когда сдаешь книгу, под конец начинаешь уже большими порциями: уже привык, уже знаешь. Потом еще столько дней редактируешь. У меня так: сначала по две строчки, потом по две-три страницы в день, последние три дня уже перед завершением работы уже может быть по двадцать страниц в день, чудовищная порция. И большая редактура. Но вы спросили о другом, какие авторы.
Вот был Дэн Браун. Это литература, которую я хоть как-то читала. Конечно, есть такие бестселлеры, которые я совсем не читаю. Их много, они слишком плохо написаны. И Дэн Браун стал переводиться на все языки мира с огромными ошибками, это печально. Потому что он все-таки, несмотря на то, что он очень много примитивизирует, но, тем не менее, он использует культурный материал. Материал надо правильно именовать. Марию Магдалину нельзя называть «Мария Магдалена», даже если ты переводишь коммерческое чтиво. Это азбука нашей работы. Это то, за чем должен следить автор, а в случае перевода - редактор. В переводах, знаете, ошибки выходят страшнейшие. Страшнейшие.
Вот вам показывал Максим книжку про итальянскую еду, а я даже что-то немножко о ней рассказывала. Вот это второе издание разделили на два тома - и неудачно получилось. А есть издание более компактное, в одном томе. Ну, когда я работала над этой книжкой, и сейчас, когда я работаю над следующей книжкой, она будет называться «Итальянские сезоны», накапливаются наблюдения по поводу перевода. Проблема переводов названий, например, городов. Есть такие города, которые звучат во всех странах одинаково, и есть такие, название которых каждый раз переводить надо. Точно так же как главные органы человеческого тела во многих языках – руки, ноги, глаза, уши – их названия образуют, с точки зрения грамматики, неправильные парадигмы. Что важнее всего, часто выходит за пределы грамматических правил. Точно так же и главные города мира в разных языках называются по-разному. Я имею в виду Лондон, Париж и Рим. А мелкие деревушки и городишки, которых миллионы, во всех языках одинаковы на латинице. И при их переводе на другой язык, если там тоже латиница, сложностей не возникает.
Но вот с кириллицей возникают сложности где угодно и когда угодно! И когда я читала кучи путеводителей, для работы над моими собственными книгами, я отмечала, что есть ошибка перевода почти в каждом, мельчайшем, никому не известном городишке или какой-нибудь захудалой деревушке. Потому что переврано произношение. Ведь на русский язык делается не транслитерация, а трансфонетизация. Переводчик должен очень четко себе представлять, как произносится любое имя собственное или любое заимствование. Если не знает, он не имеет права переписывать это кириллицей. Пусть уж лучше латиницей, как в оригинале, вставляет!
Максим Амелин: Самое интересное происходит, когда переводят, например, с итальянского, а в этом итальянском отрывке другие города других народов упоминаются. Тогда происходит полнейшая путаница всего на свете. Потому что как пишется на французском, так и на итальянском, а произносится по-другому.
Елена Костюкович: Понимаете, это все набор правил, которые применяются, чтобы все сделать корректно. Хотя есть случаи – вот и Максим привел пример – когда корректность, наоборот, не требуется. И даже когда какая-нибудь дикая, идиотская ошибка должна быть воспроизведена. Вот, например, «it rains cats and dogs», льет дождь собаками и кошками, так говорят англичане. Мы с вами понимаем, что мы будем переводить на русский язык «льет как из ведра». А на итальянском «piove a catinelle» мы будем переводить, по-итальянски дождь идет тазиками. Заметьте, что итальянцы имеют более компактную меру жидкости - тазики. Это менталитет.
Но it rains cats and dogs, это понятно, что мы по-русски «кошками-собаками» не должны писать. Ничего подобного, может оказаться, что нужно именно написать «кошками-собаками». Потому что, во-первых, это может быть детская считалочка, где cats and dogs должны остаться. Во-вторых, это может быть описание рассудка помешанного человека, которому мерещатся кошки и собаки, падающие с неба. Ну, это я уже утрирую, но все-таки. В-третьих, это может говорить какой-нибудь человек, изучающий английский язык, и для того, чтобы показать, что он затрудняется войти в логику английской метафоры, кошки и собаки возвращаются снова, понимаете? Я просто привела вам парадоксальный, пограничный пример перевода, неправильного перевода, который никто из вас не сделает, естественно, никогда - если он видит rains cats and dogs. Но, тем не менее, кошки и собаки могут возникнуть в переводе. Может оказаться речь помешанного, может оказаться речь безграмотного, может оказаться речь диалектальная, может быть название ресторана. Мы вас утомили, наговорились, может быть, вопросы все-таки.
Максим Амелин: Ну, расскажи про свою книгу про еду.
Елена Костюкович: Не буду я рассказывать про свою книгу про еду, потому что я хочу, чтобы вы мне задали вопросы про переводы, а не про книгу про еду.
Максим Амелин: Так она переведена на семнадцать языков!
Елена Костюкович: На семнадцать языков. Вот, увлеклась. Про перевод спросите что-нибудь.
Вопрос из зала: Скажите, пожалуйста, про технологии. Интернет, Google - они помогают переводчикам или, наоборот, усложняют жизнь? Раньше же их не было, как это изменило жизнь? Появился сленг, олбанский язык.
Елена Костюкович: Да-да, олбанский. Еще он назывался язык падонков. Спасибо, для меня это - замечательный вопрос. Он затрагивает то, о чем и я думаю в последнее время. Во-первых, конечно, наличие интернет-поиска дает такие феноменальные возможности всем нам, о которых я не мечтала, не думала, живя свою прошлую жизнь. И, конечно, когда я переводила «Имя розы», у меня был такой труд, невидимые миру слезы, вроде этих стишат политических, которых очень много, еще раз повторяю - тут сорок стихотворений.
А еще нужно было цитаты разыскивать, например, в латинской и греческой литературе еще для одной, другой вещи, которую я назвала «невидимые миру слезы». Речь о книге Эмануэле Тезауро, «Подзорная труба Аристотеля». Это трактат огромный ХVII века, напичканный цитатами, никогда не переиздававшийся, никогда не комментировавшийся. Я взяла издание ХVII века и работала по нему. А это был трактат про литературу, так что цитаты там приводятся с умом. И эти все поиски, знаете, как велись? У нас в Библиотеке иностранной литературы, слава богу, на самой нижней полке находилась многопудовое издание латинских классиков. Каждый том весил килограмм двенадцать. Лежа в пыли на полу в Библиотеке иностранной литературы, я с трудом вытаскивала том за томом из этой полки. Повторяю, слава богу, внизу. Том шлепался, пыль из него шла. Дальше я начинала страницу за страницей его читать. Потому что я понимала, что искомая цитата, предположим, это почти точно Сенека, скажем, вероятно, «Письма к Луцилию», но я не могу по русскому тексту читать, который у меня есть дома. Потому что я не угадаю, где это приведено в той форме. А просто перевести с латыни – против законов нашей профессиональной этики. Может, никто не увидит, не узнает, но ведь другой переводчик это уже перевел. Ты из уважения к его труду должен его процитировать. Так ты сидишь, строчку за строчкой просматриваешь. Строчку ты узнаешь – помнишь уже наизусть. Ищешь по указателю имен собственных, если они есть в твоей цитате. Если ищешь цитату рифменную, то просматриваешь начальное слово и конечное каждой строки. Так вот и ползешь по книге, сдвигая промокашечку.
И, вы понимаете, эта протирка страниц от пыли - ну, день уйдет на один том. За пять дней просмотришь пять томов Сенеки, найдешь, Бог даст. А тогда уже берешь русский перевод, который стоит дома. И, зная, из какого произведения, берешь строчку своего коллеги, который ее раньше перевел, и впихиваешь в свой текст. И никто никогда тебе за это не скажет спасибо.
Максим Амелин: А давали пять книг на руки всего?
Елена Костюкович: Нет, это было в те времена, когда я сама работала в библиотеке, и поэтому я вползала на брюхе в хранилище и лежала там в пыли.
Интернет… Я пережила в своей жизни два побега в свободу, о которых я вам рассказывала, феноменальных. Три, вернее. Одно было освобождение от тогдашнего Киева, другое было освобождение от тогдашнего Советского Союза, и третье было освобождение от рабской, каторжной работы с оригиналами текстов, беспрерывной, унылой черновой работы, жрущей мою жизнь и силы. Это освобождение - это был Интернет. Выход в новое информативное пространство, и тот факт, что это на мой век пришлось… Я считаю, что очень счастливо наше поколение, которое родилось, когда еще надо было смотреть бумажные издания, с такой малой выработкой, так много времени уходило, и на нас пришлась волшебная перемена. Сейчас - секунда, это поиск. Секунда – и цитата твоя. Все, что угодно, твое, только не ленись. Почему мои студенты, сукины дети, не хотят посмотреть даже в Google? Вот вы мне объясните.
Максим Амелин: Вот это мне непонятно. Ты листала эти фолианты, и тебе теперь понятно, а им ничего. Они их не видели, они не добывали информацию, не читали между строк.
Елена Костюкович: Он переводит, там он видит имя. Он его переписывает, как может. Я говорю: «Роберто, дитя мое, кто это такой, этот человек?» «Я не знаю». «Ну как это не знаешь? Вот же есть в Гугле, посмотри! Ты тогда узнаешь, что это не русский человек, а немец, он звучит иначе, что его не надо переписывать в транскрипции с кириллицы, а воспроизвести немецкую форму». Есть одна транскрипция в итальянском языке, а в немецком… Ну, допустим, Мандельштам. Если считать, что имеется в виду Мандельштам русский поэт, то у него буква «ш» передается с птичкой. Если же предположить, что речь идет о его пра-пра-дедушке, который, скажем, не работает в на русской территории, он, предположим, где-нибудь в Польше купец, то тогда будет «ш» через sch писаться. Но в немецком перед p и t sch не пишется. Значит, Mandelstam. То же самое, что с кириллицы, но без птичечки.
В общем, я хочу сказать, что переводчик должен проверять каждое имя собственное. Надо понимать, мужчина он или женщина, когда переводишь, по понятным причинам – глагол согласовывать надо, имя по мужскому или женскому фасону надо склонять. Иначе у вас средневековые персонажи действуют, если вы не поняли, кто из них мальчик, кто девочка, вы не можете этот текст перевести на русский язык.
Ну и в прежние времена как узнавать? Была большая морока! А сейчас есть Гугл. Очень помогает.
Я говорила, что Гугл помогает. Но он порой и мешает ужасно. Что мешает сильнее всего? Загрязнение языка. Я чувствую загрязнение языка. Поверьте, очень-очень драматично, сильно и постоянно. У меня уже есть ощущение, что неправильно, как сказать, немилосердно с русским языком обходятся уже даже многие мои друзья, интеллигентные многие. Про двух здесь присутствующих не скажу, правда, не про вас! У меня есть близкие друзья, которые употребляют такие кошмарные новые обороты. Главное, какие-то приблатненные получаются слова, отвратительные. Я не могу ничего сделать, он же, главный начальник, блатным языком говорит! Но интеллигенция не должна этого делать, потому что она должна защищать другую политическую позицию. А между тем все это блатное усваивается и употребляется. В Интернете это тоже все вижу.
Ну что? Вы переполнены, Вам больше ничего не нужно, никаких разъяснений, хватило нашего выступления. Тогда давайте прощаться.
Максим Амелин: Может быть, еще есть какие-то вопросы?
Вопрос из зала: Что-нибудь выдающееся, что останется во времени в итальянской литературе?
Елена Костюкович: Я думаю, что мы сейчас на всей планете переживаем такой момент, когда очень мало есть того, что останется. Я не могу судить почему. Вот ты понимаешь?
Максим Амелин: Этому нет объяснения. Ритм жизни человеческой очень убыстрился. И нам кажется, что события должны происходить чаще, чем они вообще когда бы-то ни было происходили, понимаете? Реально, остался Шекспир. Все остальное поколение его - факультативно. Кто-то знает Марло, кто-то - Спенсера и Сидни. Но в целом, это уже факультативная литература. А это целый пласт английской литературы, 50 лет, даже больше. Дальше был Мильтон. За 50 лет английская литература дала одного единственного мирового писателя. А мы хотим, чтобы нам каждые пять минут поставляли великих гениев. Так не бывает просто. А нам кажется - мы Интернет смотрим каждые пять минут: что же там произошло?
Реплика из зала: Вопрос: какой ваш самый любимый роман Умберто Эко? И тут же - какой ваш самый любимый роман вообще?
Елена Костюкович: Вообще самый мой любимый роман – это «Лолита» Набокова, потому что это книга о языке. Русский вариант. Потому что я очень интересовалась, когда читала и продолжаю перечитывать, любыми мелкими вопросами, которые решал Набоков в применении к языку.
Максим Амелин: Ну, помнишь, там все-таки в русском переводе не совсем правильно идет это, не как в английском. Условно говоря, по-другому. Вот он не смог передать это хождение языка по нёбу в первом абзаце, понимаешь. Все-таки он не смог. Сам себя не смог перевести.
Елена Костюкович: А в конце концов он въезжает в линию любовную, в конце, когда он уже приходит к ней после расставания. У меня всегда при чтении этой сцены мурашки идут по коже, я считаю, что в мировой литературе любовных сцен таким мало. Вот. Не считая древних авторов, старых авторов, которые, мы все понимаем, очень любимы. Вы все-таки ХХ век имели в виду, видимо? А из романов Умберто Эко - самый несчастненький, которого никто не любит.
Максим Амелин: «Баудолино» или «Остров накануне»?
Елена Костюкович: «Остров накануне». Ни один человек хорошего слова про «Остров» не сказал. Я его жалею. Это как ребеночек такой хилый, больной.
Реплика из зала: Это потому что он вам хорошим показался?
Елена Костюкович: Ну, умная книжка. Он хороший, правда. Я просто не могу ни перед кем выступать в роли агитатора и говорить: «Найди неделю прочитать эту книжку». Потому что я понимаю, что в нее надо вбухать неделю. А как я могу у читателя отобрать неделю? Вот прочтете, неделю дадите себе времени, вы увидите. Там рассуждения обо всем на свете. Конец, до которого никто не доезжает, - одна из самых сильных любовных сцен, а у Умберто Эко - самая сильная. Это сцена любви и смерти одновременно. Она абсолютно напролом, она открытая, она никакая не виртуозная, не вычурная, не манерная, ничего. Там один слезы и кровь, и жизнь пульсирует. И кто до этого дочитал?
Реплика из зала: Я!
Елена Костюкович: Правда?
Реплика из зала: Правда, с трудом.
Елена Костюкович: Вот видите. А ваш какой самый любимый роман Умберто Эко?
Реплика из зала: Не могу сказать.
Елена Костюкович: А вы, Саша, что хотели спросить?
Реплика из зала: Я хотела спросить про литературное агентство и про интерес и востребованность к литературе.
Елена Костюкович: Саш, я очень коротко, потому что зал сидит уже полтора часа, слушает с интересом. Как можно злоупотреблять? Надо всех домой отпустить. Литературное агентство – это занятие, которое состоит в том, чтобы убедить людей что-то сделать. В основном, они сопротивляются и нервничают. Это как санитарка в сумасшедшем доме, она должна успокаивать и подводить к тому, чтобы люди делали то, что им самим полезно. Вот литературное агентство это делает. Должно пытаться их подвести к какому-то деланию чего-то, что для них будет хорошо. Ты должен убедить автора, что надо согласиться опубликовать где-то роман. Перед этим ты должен убедить издателя этот роман издать. Издатель не хочет издавать романы принципиально никогда никакие. Вот и все. Вот, например, Андрей Викторович, он печатается во Франции. У него есть там литературный дом Файяр, издательство, которое любит его произведения, потому что там есть редактор, который его понимает. Андрей Викторович Дмитриев – один из крупнейших нынешних писателей, безусловно, талант. И я старалась, пыталась предложить в других странах в издательства. Так как в тот момент там не было подходящих читчиков, мода туда не пошла, никто ничего не хочет, понимаете? А настанет вдруг мода, и его захотят и будут рвать из рук. В других случаях вдруг вспыхивает мимолетная мода, вдруг все кидаются покупать Ирину Денежкину. На всем мировом земном шаре публиковали Ирину Денежкину.
Максим Амелин: Тридцать семь языков!
Реплика из зала: Мне ее просто жалко!
Елена Костюкович: Да-да! Мне тоже жалко!
Реплика из зала: Использовали - спустили в унитаз. Абсолютно.
Елена Костюкович: Проходит еще два года, Денежкину никто уже не знает. Через пятнадцать месяцев это все исчезает. Конец тиража идет под нож, она уже никому не нужна. И начинают утверждать, что русская литература - очень плохая литература. Понимаете, все эти вещи, они обязательно ударяют по больному месту нас, посредников, агитаторов и пропагандистов. И ударяют в любом случае. Что бы ни происходило - мы виноваты. Поэтому работа очень трудная, жутко трудная. И совершенно не дающая удовлетворения с точки зрения заработков. Но вот если вы получаете удовлетворение от того, что книги появляются, вот это, конечно, ощущение феноменальное. Это как акушеркой работать, это приятно. Я ответила?
Реплика из зала: Да, спасибо!