Sankt Petersburg
"Brodjachaja sobaka" club (Ploshad' Iskusstv 5)
14.00-16.00
EVENTS
La settimana della lingua italiana 18-23 ottobre 2004
"Brodjachaja sobaka" club, Sankt Petersburg, october 2004, EK reads her poetry translations.
Любопытные задачи возникают при переводе старинных текстов. Все дело в том, до какой степени переводчик намерен придавать этим текстам ироническую окраску, не переставая тяготеть к буквальной точности.
Примером может выступить «Неистовый Роланд» (1516-1632) Лудовико Ариосто, известный в России в замечательно полном переводе верлибром М.Л. Гаспарова (Москва: Наука, 1993, 2 т.). В 1970 г. Итало Кальвино создал сокращенный вариант поэмы, введя в текст прозаические куски, в которых самим стилем изложения подчеркнул ирои-комический характер поэмы, полемически развивавшей действие вполне серьезного «Влюбленного Роланда» Маттео Марии Боярдо (1476-1494). Книга Ариосто-Кальвино под названием «Обуянный Орланд» готовится к выходу на русском языке (пер. мой) в петербургском издательстве «Симпозиум».
Книга называется «Итало Кальвино пересказывает Orlando Furioso» и была создана для школьников. Она предназначалась тем, кто должен запомнить сюжет и имена ведущих персонажей, прочесть некоторые октавы и получить посильное удовольствие. Кальвино, литератор гениальной легкости, виртуоз ритма, человек редкого здравого смысла, сумел создать приятное и умное чтение для любого возраста. Книга живет как особое явление в итальянской культуре вот уже тридцать пять лет. Она переведена на многие языки, причем любопытно, что на немецкий ее перевел Буркхарт Кребер, мой «коллега», выполнивший переводы всех романов Умберто Эко. «Орланд Кальвино-Ариосто» в переводе Кребера был роскошно издан в издательстве Ханзер в 2003 году, со специально нарисованными для этой книги иллюстрациями, и сразу вошел в список бестселлеров в Германии.
Вы, наверное, заметили, что я процитировала название поэмы по-итальянски. Это не случайно. Невзирая на то, что в прежние времена бытовали по меньшей мере два русских названия – «Неистовый Роланд» и «Неистовый Орландо», я хочу предложить третий вариант названия, «Обуянный Орланд». У меня, как и у моих коллег-предшественников, готово объяснение причин собственного творческого выбора. Дело в том, что Орланд не неистовый по натуре своей, просто на него согласно сюжету романа находит помрачение – по-итальянски «фурия», вот он и становится «фуриозо», а потом он отходит от бешенства и опять возвращается в облик нормального человека. Имеются у меня и добавочные соображения как фонетического, так и графического плана. Словосочетание Orlando Furioso содержит много «о», это такой зрительный образ пустоты, безумия... временного безумия... хотелось воспроизвести эффект.
Перевод названий художественных произведений – отдельная проблема, ей посвящено немало специальных работ. Нельзя на этом задерживаться в интервью – не тот жанр. Так что давайте решим с вами, какому критерию следовать в этом интервью – либо нейтрально будем именовать наш «Объект» «Orlando Furioso», либо займем новаторскую позицию и храбро подымем на щит «Обуянного Орланда».
Мнение среднего итальянца об этом тексте – двоякое. В школе, наверное, каждому пришлось позевать над Орландом как частью обязательной программы – объем-то неподъемный, а обязаловка всегда угнетает. Но потом, когда люди вырастают, нервы успокаиваются, представление становится зрелее... Достаточно сказать, что сюжеты Ариосто лежат в основе всего сицилийского кукольного театра. По мотивам поэмы «Orlando furioso» создано немало выдающихся рисунков и картин, оперных и балетных композиций, текст на слуху у широкой публики. В общем, он занимает в сознании итальянцев примерно то же место, что «Руслан и Людмила» у русских. Сравнение уместно, так как, во-первых, поэма Пушкина представляет собой русский аналог ариостова шедевра, а во-вторых, каждому из нас знакомо устало-ироничное (всю жизнь с детского сада под знаком этого лукоморья!) но и любовное, благодарное отношение к этому изучавшемуся в школе произведению.
За прошедшие столетия итальянский язык переменился невероятно сильно, да и вообще настоящий итальянский язык, язык объединенной Италии, возник только в середине девятнадцатого века благодаря сознательной работе писателя Алессандро Мандзони, автора главного романа всей итальянской словесности – «Обрученные». Итало Кальвино, конечно, переводчик. Он и в этом случае переводчик, и вообще замечательный переводчик, знаменитый своими прелестными работами – с французского в основном языка (прославленная работа – переводы экспериментальной прозы Ремона Кено, в частности книги «Синие цветы» ). Кальвино перелицовывает велеречивые, текучие октавы Ариосто на пружинистый, отрывистый лад. Вот я вам приведу цитату:
В таверне на Пиренеях давали ужин. Внезапно раздался шум. Гостиник и подавальщики забегали: кто бросился к окнам, кто на улицу, глядят в небо, раскрыли рты. Женщины бросили очаг и стряпню и убежали в погреб.
- Что за черт? Затмение? Комета? - Двое гостей, вроде, не робкого десятка. Один из них - великолепно наряженный рыцарь, лучезарный лик, золотые длинные пряди; второй - уродливая харя, кургузый и короткий, косматый и чернявый. Одет в обтягивающее трико.
Гостиник торопится извиниться: не волнуйтесь, все в порядке, он уже пролетел. Он? Кто? Он - крылатый конь, пролетает каждый вечер, верхом на нем летает кудесник. Когда кудесник видит красавицу, опускается и похищает. Поэтому женщины прячутся: и красивые, и те, кто полагают себя красивыми, то есть, выходит, все. Украденных женщин волшебник уносит в свой заколдованный замок в Пиренеях. Рыцарей уносит тоже. Тех, кого переборол в поединке. А перебарывает он всех: до сегодняшней поры каждый, кто отваживался его вызвать, становился пленником.
Гости даже не ведут бровью. И первый и второй прибыли именно за этим. - Тогда, - встряхивает рыцарь золотою гривой, - дай мне проводника, и я вызову чародея!
- Я могу проводить, - вступает черный человечек. - Доверься.
Того и надо Брадаманте. Ибо рыцарь - это она, отважнейшая из дерзких в рядах Великого Карла. Брадаманта приходится сестрой монтальбанскому Ринальду, а чернявый человечек прозывается Брунел, он вор и служит при сарацинском войске. Это он украл у Анджелики волшебное кольцо, вывезенное из Катая . И Брунел, и Брадаманта замышляют освободить от чернокнижника Атланта одного из заключенных рыцарей, Руджера.
В этот текст Кальвино то и дело вставляет октавы Ариосто. Очевиден контраст стилей. Но при правильной пропорции современного и старинного стилей древность свежеет, становится забавной, радует глаз и ухо. Кальвино не меняет сюжет поэмы, но очевидно, что текст сильно переозвучивается этим беззаботным и легким рассказчиком, который насыщает свой пересказ и элементами литературоведческой критики, и данными истории, и выражениями своих вкусов и предпочтений. Поэтому произведение становится другим. Оно приобретает другую аранжировку. Сильнее чувствуется ироикомическое начало.
Сравним же различные аранжировки классического текста, различные прежде всего по своей «экстракции»: перевод поэмы отдельным изданием – с переводом кусков поэмы, помещенных в контекст современной прозы. В одной колонке процитируем перевод М.Л.Гаспарова, где переводчик «отказываясь от точности метра и рифмы, получает больше возможности передать точность образов, интонации, стиля произведения» (самохарактеристика М.Л. Гаспарова, т. 1, с. 538). В другой – перевод Костюкович, взятый из готовящейся книги, где большие куски старого текста вставлены в контекст современной прозы. Приведем также в подстрочных примечаниях итальянский текст и буквальный перевод.
Объясняя свои решения, прежде всего замечу, что на фоне прозы Кальвино стихи Ариосто выделяются контрастно. Следовательно, в переводе необходимо было воспроизвести стихи: соблюсти восьмистрочную рифмованную строфу, сохранить обязательный для русской октавы пятистопный ямб с чередованием мужских и женских рифм. И все же у меня октава приобрела новую физиономию. Считая самой слабой стороной октавы ее монотонность, я решила везде поменять местами пятую и шестую строки. Этим была сломана монотонная интонация, введена новая пара мужских (либо женских) строк в середине каждой строфы, дополнительно к парной концовке, которая традиционно в октавах заряжена комичностью. Двойное нарушение альтернанса - очень богатая возможность, удваивающая комические потенции строфы. Октава Ариосто, как и вообще октавы у итальянских поэтов-ироикомиков большой формы шестнадцатого-семнадцатого веков (у Пульчи в «Морганте, у Тассони в «Похищенном ведре», у Липпи в «Освобожденном Мальмантиле») суперактивна, в ней постоянно присутствуют каламбуры, комичные рифмы, забавные повороты интонаций. Это ценил в октавах Ариосто Пушкин, не случайно писавший о Вольтере (имея в виду ироикомическую «Орлеанскую девственницу») «Арьоста, Тасса внук...» Октавами переводил на итальянский язык с французского вольтерову «Pucelle d'Orleans» Винченцо Монти, октавы избрал достаточно заунывный поэт Джакомо Леопарди для своих «Паралипоменов к Батрахомиомахии».
| PEREVOD GASPAROVAI-10 А девица того шатра, Не желавши стать добычею победившего, Вскочила в седло и пустилась прочь, Упреждая побегом поражение. Верно, чуяла она, что сурова в тот день Обернется судьба к Христовым верующим. И вот въезжает она в лес, и на узкой тропе Пешего она встречает рыцаря. |
PEREVOD KOSTIOUKOVITCHА дева, что сидела в той палате, в трофеи не желая попадать, в седло сигнула - конь случился кстати, он рядом пасся - и пошла скакать, предвидя, что не станет помогать в тот день фортуна христианской рати. По лесу узкой тропочкой гоня, вдруг видит конника, но без коня. |
| I-11 Вкованный в доспех, в шеломе над челом, С мечом при бедре, со щитом в руке, Несся он по лесу легче и быстрей, Чем бегун, налегке соревнуя за красный плащ. Ах, ни самая робкая пастушка Не отдернет так ногу перед едкой змеей, Как рванула поводья Анджелика Прочь от приближающегося пешего! |
Кираса, шлем, нарамник, латы, щит сума на поясе, и меч тяжелый; но он стопой легчайшею бежит, чем на базаре гаер полуголый. Ах, ни одна пастушка в тени дола пред злой змеею так не задрожит, как Анджелика – повода рванула на всем скаку и лошадь развернула. |
| I-12 Это был Ринальд, удалой паладин, Сын Амона, владетель Монтальбана, У которого только что скакун его Баярд Вырвался из крепких рук по воле случая. Издали, С первого же взгляда на красавицу, Он признал в лице ее те божественные черты, Чьими чарами был в любовных путах. |
Хватило ей мгновенья, как ни странно, чтобы признать красавца-молодца: зовут его Ринальд из Монтальбано; Амоном Монтальбанским звать отца. Так вот, чуть он черты ее лица вдали увидел, призрачно, туманно, как тут же осознал: вот эта вот его попутала в силки тенет. |
| I-13 А красавица устремляется прочь, А красавица мчит стремглав Меж частых стволов, меж редких стволов, Не разбирая доброго пути; Бледная, трепещущая, вне себя, Вверясь скакуну, Кружит она круги по дикому лесу, И вот перед нею открывается река. |
Она же от него спешит-летит по гуще, и пути не разбирает: коня колотит, бьет его, язвит, пусть топь, пусть гать, пусть конь бежит как знает; сама бледна, едва не умирает, вся не в себе, бессмысленно кружит, пока не оказалась над рекою, исполненной и ласки и покою. |
| I-14 А над тою рекою сарацин Феррагус, В кровавом поту, в битвенной пыли, Искал от боевых забот Отдыха и глотка воды. Поневоле замедлил он на этом берегу В торопливой жажде Уронил он в струю шишак И напрасно его отыскивал. |
А к той реке поклоном припадает прокопченный и пыльный Феррагус. Напился было, а теперь страдает, что утоляя жаркий пламень уст, шелом отставил, как ненужный груз... А шлем бултых на дно – и утопает! и как он ни старается, никак из вод не выловляется шишак. |
| I-15 С криком, во весь опор Вынеслась на него перепуганная красавица; Вскакивает сарацин на крик, Смотрит в ее лицо, И узнает В бледной и смятенной от перепуга Ту, о которой он так давно не слышал, Во всаднице этой – прекрасную Анджелику. |
Тут на него внезапно, как гроза, с великим воплем дева наскочила. Тогда и сарацин во все глаза воззрился на нее, что было силы, и опознал прелестный образ милый, хотя со страху нет на ней лица, и хоть смутна она и бледнолика, но он уверен: это Анджелика! |
| I-16 Он был рыцарь, И сердцем горяч, как Ринальд и как Роланд: Без шлема, как в шлеме Рьяно он прянул на защиту девицы – С мечом наголо, с криком на бегу Против неоробелого Ринальда. Не раз они видывали друг друга, Не раз переведывались булатом! |
Был Феррагус не робкого десятка, да и влюблен не меньше, чем другой. Без шлема, но не чуя недостатка в вооружении, рванулся в бой помериться и силой и судьбой с лихим Ринальдом, чья знакома хватка: у них уже немало было встреч, чей результат решал звенящий меч. |
| I-17 Жестокая заварилась сеча; Нога к ноге и клинок на клинок. Не латам и не кольчуге – Наковальне бы не в мочь такие удары. Длится ратный труд один на один, А меж тем скакун красавицы помнит свой путь. Он, пинаемый пятами ее, Мчит сидящую по лесам и лугам. |
Сам-друг, сам-пеш, с оружьем наголо они сцепились за любовь подруги. И наковальню в прах бы разнесло от их ударов и лихой натуги! Корежились кирасы и кольчуги... Подруга же, смекнув: вот повезло! коня торопит прочь, круша пинками и колотя по крупу каблуками. |
(I-10) Dove, poi che rimase la donzella
ch'esser dovea del vincitor mercede,
inanzi al caso era salita in sella,
e quando bisognò le spalle diede,
presaga che quel giorno esser rubella
dovea Fortuna alla cristiana fede:
entrò in un bosco, e ne la stretta via
rincontrò un cavallier ch'a piè venìa
(Где оставалась дева, и выпадало ей становиться добычей сильнейшего, по этому случаю взлезла в седло и, улучив момент, показала спину, предвидя, что не симпатизирует в тот день Фортуна христианской вере, потому въехала в лес, и на узкой тропе встретила конника без коня.)
(I-11) Indosso la corazza, l'elmo in testa,
la spada al fianco, e in braccio avea lo scudo;
e più leggier correa per la foresta,
ch'al pallio rosso il villan mezzo ignudo.
Timida pastorella mai sì presta
non volse piede inanzi a serpe crudo,
come Angelica tosto il freno torse,
che del guerrier, ch'a piè venìa, s'accorse.
(На туловище кираса, на голове шлем, на боку меч, в руке щит, но легче бежит по лесу, чем на соревновании за красным плащом полуголый мужлан. Робкая пастушка никогда столь проворно не уносит ноги от злой змеи, как споро вывернула поводья Анджелика, заметив этого спешенного воина.)
(I-12) Era costui quel paladin gagliardo,
figliuol d'Amon, signor di Montalbano,
a cui pur dianzi il suo destrier Baiardo
per strano caso uscito era di mano.
Come alla donna egli drizzò lo sguardo,
riconobbe, quantunque di lontano,
l'angelico sembiante e quel bel volto
ch'all'amorose reti il tenea involto.
(Это был тот молодец-паладин, сын Амона, господина Монтальбанского, от которого за некоторое время до того невесть почему убежал скакун Баярд. Как он вперил очи в донну, тут же узнал, хоть и издали, ангельский облик и хорошенькое личико, которое ввергло его в любовную путаницу).
(I-13) La donna il palafreno a dietro volta,
e per la selva a tutta briglia il caccia;
né per la rara più che per la folta,
la più sicura e miglior via procaccia:
ma pallida, tremando, e di sé tolta,
lascia cura al destrier che la via faccia.
Di sù di giù, ne l'alta selva fiera
tanto girò, che venne a una riviera.
(Донна повернула назад коня и по лесу во весь опор погнала его, не держась редколесья, не обходя гущу, не выбирала самый надежный и лучший путь, а в бледности, дрожа, сама не в себе, дала коню торить дорогу, туда, сюда, и по густому дикому лесу до того докружилась, что оказалась на берегу реки).
(I-14) Su la riviera Ferraù trovosse
di sudor pieno e tutto polveroso.
Da la battaglia dianzi lo rimosse
un gran disio di bere e di riposo;
e poi, mal grado suo, quivi fermosse,
perché, de l'acqua ingordo e frettoloso,
l'elmo nel fiume si lasciò cadere,
né l'avea potuto anco riavere.
(А на той реке обнаружился Феррагус, весь потный и весь пропыленный. От битвы он был отвлечен сильной страстью попить и передохнуть; вслед за чем, уже против воли, он тут и остался, ибо, жадный до воды и спешливый, уронил в речку шишак, и никак не мог его вытащить).
(I-15) Quanto potea più forte, ne veniva
gridando la donzella ispaventata.
A quella voce salta in su la riva
il Saracino, e nel viso la guata;
e la conosce subito ch'arriva,
ben che di timor pallida e turbata,
e sien più dì che non n'udì novella,
che senza dubbio ell'è Angelica bella.
(Как только хватало сил, на него летела вопя перепуганная девица. Услышав этот голос, подскочил на берегу Сарацин и вперился в ее лицо и вмиг понял, кто это перед ним, хотя она была и бледная, и размученная, и о ней уже много дней ничего было не слыхать, но без сомнения – что это и есть красавица Анджелика)
(I-16) E perché era cortese, e n'avea forse
non men de' dui cugini il petto caldo,
l'aiuto che potea tutto le porse,
pur come avesse l'elmo, ardito e baldo:
trasse la spada, e minacciando corse
dove poco di lui temea Rinaldo.
Più volte s'eran già non pur veduti,
m'al paragon de l'arme conosciuti.
(И поскольку он был благороден и вероятно, не менее двух кузенов горяч чувствами, посильно оказал он ей всевозможную помощь, как если бы имел шлем – с отвагой и смелостью; он вытащил меч и, потрясая, ринулся туда, где не боялся его Ринальд. Они ведь уже много раз виделись и меряясь оружием, познакомились).
(I-17) Cominciar quivi una crudel battaglia,
come a piè si trovar, coi brandi ignudi:
non che le piastre e la minuta maglia,
ma ai colpi lor non reggerian gl'incudi.
Or, mentre l'un con l'altro si travaglia,
bisogna al palafren che 'l passo studi;
che quanto può menar de le calcagna,
colei lo caccia al bosco e alla campagna.
(Там и начали жестокую битву они, как были, пешими, с мечами наголо. Тут уж какому панцирю, какой кольчуге, даже и наковальне было бы не сдержать их ударов. Так, пока один с другим колотятся, погляжу, куда идет конь, ибо сколько может лупить пятками, столько всадница и лупит, гоняя его по лесам и весям).
В первом случае (верлибры) стиль перевода архаичный и высокий. Комический подтекст будет привнесен читателем, понимающим, что под оболочкой высокопарности запрятана усмешка. В другом случае (октавы) мы ставим себе задачу вывести озорной хулиганский стиль наружу – и выводим его.
«Хотя М. Л. Гаспаров из всех филологов, которых я знаю или знал, при всей его непримиримой научной строгости, а может быть, благодаря ей, представляется мне более всего поэтом, то есть художником в первую очередь и в полном смысле слова, но он художник дидактического склада, учащий стоической настойчивости в понимании и взаимопонимании». – Омри Ронен. Прописи, в: «Звезда», 2002, № 7.
Стоической строгости мы противопоставляем ирои-комическую интерпретацию, которую, как признается многими (1), предлагает оригинал. Мы подчеркиваем и эротические подтексты, контрастирующие с возвышенной куртуазностью произведения. Выделяя эротичность текста, мы адресуемся к интерпретациям Ариосто, избиравшимся художниками многих веков. В современную поэту эпоху – в шестнадцатом веке -иллюстраторы и живописцы, касавшиеся сюжета поэмы, трактовали его в духе куртуазности, традиций рыцарского романа, из которых сильнее всего воспринимался замысловато-сказочный аспект. Однако уже в живописи семнадцатого века аристотелевские сюжеты начинают ассоциироваться в первую очередь с эротизмом, вуаеризмом, изощренной порочностью. Картина Петера Пауля Рубенса «Анджелика и отшельник» (1626, Вена, Kunsthistorishes Museum) воспроизводит известный эпизод из восьмой песни, когда дева оказывается во власти сластолюбивого, да бессильного старца. Картина Рубенса - это абсолютно сексуальная сценка в духе «Юпитера и Антиопы» или «Отдыха Дианы» и всех венецианских спящих Венер живописи Чинквеченто. Она решена в ключе той же лихой иронии, что и октавы оригинала: на месте традиционного сатира, в положении и в позе божества похоти - бессильный старец, к тому же в рясе священнослужителя.
Анджелика вечно убегает. Она – объект любовной гонки. Эта красотка сплошь и рядом воспринимается как исключительно как постельное мясо. И обращение с ней предполагается откровенно солдафонское:
| I-58 Я сорву эту утреннюю розу, Чтобы от времени она не увяла – Ибо знаю, что для женщины нет Ничего иного желанней и слаще. Даже ежели на ее лице Ужас, и боль, и слезы, Ни отпор, ни притворный гнев Не помеха моему замыслу и делу |
Сорву я свежий цвет прелестной розы, чтоб ей бессмысленно не увядать. известно, каковы девичьи грезы: им наш наскок - не страх, а благодать. В охотку им притворно пострадать, в охотку им пускать фонтаном слезы! Хоть гнев, хоть рев, пусть и слеза, пусть две, я вышью свой узор по той канве! |
(I-58) Corrò la fresca e matutina rosa,
che, tardando, stagion perder potria.
So ben ch’a donna non si può far cosa
Che piú soave e piú piacevol sia,
ancor che se ne mostri disdegnosa,
e talor mesta e flebil se ne stia;
non starò per repulsa o finto sdegno,
ch’io non adombri e incarni il mio disegno.
(Сорву я свежую утреннюю розу, не то, если мешкать, кончится ее сезон. Я хорошо знаю, что нельзя сделать женщине ничего более желанного и приятного, даже если она представляется гневной, а иногда грустной и жалобной от этого. Но я не намерен по причине ее отпора или притворного гнева не растушевывать и не раскрашивать свой рисунок.)
Героиня вечной эротической охоты часто изображается в роли обнаженной всадницы (верховая езда), а также в позе обнаженной, привязанной к дереву или скале девы, ожидающей насильника (Анджелика на Эбуде, десятая песнь). Такова композиция полотна Жана –Огюста -Доминика Энгра «Руджер освобождает Анджелику» (1839, Лондон, Национальная Галерея), где миф Персея и Андромеды интерпретируется столь же пародийно, что и в тексте оригинала. В призывно обнаженном виде представлена Анджелика и на картине Арнольда Беклина (1871, Gemäldelgalerie, Берлин). На картине Эжена Делакруа (1860, коллекция Дрейфуса-Беста, Швейцария) Анджелика обхвачена самым  сексуальным манером. Что уж говорить о часто воспроизводимой, хотя и хранящейся в частной коллекции, картине Альберто Савинио «Руджеро и Анджелика» 1931 года, где Руджеро донельзя сексуально напорист: голова у него петушья с напруженным гребнем и тугими полушариями бородки, в руке меч, Анджелику он прижимает к себе самым откровенным образом. Кстати, не одна Анджелика охотно избирается сексуально-притягательным объектом: в том же виде выступает и дама Пинабела, изображенная в обнаженном и принуждаемом состоянии на картине «Марфиза и непреклонная женщина» Эжена Делакруа (1852, Балтимор, художественный музей Уолтерса).
сексуальным манером. Что уж говорить о часто воспроизводимой, хотя и хранящейся в частной коллекции, картине Альберто Савинио «Руджеро и Анджелика» 1931 года, где Руджеро донельзя сексуально напорист: голова у него петушья с напруженным гребнем и тугими полушариями бородки, в руке меч, Анджелику он прижимает к себе самым откровенным образом. Кстати, не одна Анджелика охотно избирается сексуально-притягательным объектом: в том же виде выступает и дама Пинабела, изображенная в обнаженном и принуждаемом состоянии на картине «Марфиза и непреклонная женщина» Эжена Делакруа (1852, Балтимор, художественный музей Уолтерса).
Переводя, повторим, не отдельно взятую поэму Ариосто, а куски поэмы Ариосто в контексте современной книги, то есть создавая свою версию в мире, памятующем и обо всех этих многочисленных живописных интерпретациях, и обо всех фривольных вариациях на темы ироикомики в октавах, и о Котляревском, и о Людмиле, и о Шемаханской царице, мы чувствуем: не только можно, но и должно принять в имени Анджелики для русского текста вульгарное русское ударение на третий слог, вместо нормального итальянского ударения на втором слоге. Так мы уйдем от «ангельских» коннотаций, повторим ошибку Пушкина и заодно восстановим в памяти читателей игривые приключения маркизы из фильма и романов Анны и Сержа Голон «Анжелика маркиза ангелов»
«Перевод – это торговля» («traduzione è negoziazione»), процитируем ключевой термин из новой книги Умберто Эко, посвященной опытам переводов – как выполненных им, так и выполненных на основании его текстов (2). Неизбежно поступаясь неким рядом элементов, другие, выделенные и кодифицированные ряды смыслов переводчик должен оберегать и «выторговывать» – главное, хорошо знать, что можно отдать, а за что надо сражаться. Октавы нашей версии Ариосто не виртуозны. Не удается всюду держать богатую рифму, допускаются и глагольные, допускаются и неточные, ибо задача - прежде всего не угнаться за великолепием версификации, а сохранить и прочертить причинно-следственные связки между всеми сегментами рассказа. Мы стремимся передать игры сравнений, противлений.
Комическая поэзия хочет, чтобы эти связки были четко прорисованы. Это, наоборот, высокий штиль позволяет наслаивать сообщения, предоставляя читателю самостоятельно домысливать связи между ними. А в оригинале у Ариосто игра последовательностей и противлений в сегментах поэтической фразы настолько тонкая, что очень многие строфы увязываются между собой в длиннейшие предложения: Когда сегменты высказывания просто нанизываются, читатель, исходя из их последовательности, прекрасно увяжет мысли сам, но при этом он не станет улыбаться, а улыбаться он станет, если мы свяжем «дважды два четыре» без него, и иногда у нас получится пять, и читатель увидит, как смешно (и иногда парадоксально) домыслил автор, то есть мы.
Я как за спасательный круг держусь за уже существующие переводы переводы Ариосто на русский язык. С любопытством, радостью, благодарностью. Михаил Леонович Гаспаров верлибрами и целиком, Евгений Михайлович Солонович в виртуозных октавах, большими кусками. Разные аранжировки, разные приоритеты, разные инструменты – а материал общий и любовь общая. Да как можно Ариосто не любить. Писал же Мандельштам «Незнакомство русских читателей с итальянскими поэтами (я разумею Данта, Ариоста и Тасса) тем более поразительно, что никто иной как Пушкин воспринял от итальянцев взрывчатость и неожиданность гармонии...»
Хотя, слушая мнение великих, можно и забояться подступов именно к этому сочинителю. Если Вы помните, в «Дон-Кихоте» Сервантеса священник заявляет, что переводить Ариосто – занятие гиблое: когда он перебирает романы, сгубившие доброго сеньора Кехана Алонсо и превратившие его в «обуянного» по образцу Орланда, священник говорит: «Orlando furioso... Если этот последний отыщется среди наших книг и мы увидим, что говорит он не на своем родном языке, а на чужом, я не почувствую к нему никакого уважения; но если он будет говорить на своем – я возложу его себе на голову» (пер. К. Мочульского).
Хорошо бы умудриться так перевести, чтобы читателю все же захотелось возложить продукт моего труда себе на голову. Тем более что он в десять раз короче, а значит, и подъемнее прототипа-оригинала.
(1.) «Но, конечно, ни аллегорическая "Королева фей" Спенсера, ни ироикомический "Неистовый Роланд" Ариосто не являлись настоящими рыцарскими романами» (Б.И. Пуришев, курс лекций «Литература эпохи Возрождения. Идея "универсального человека". Курс лекции. - М.: Высш. шк., 1996. - 366 с).
(2.) Eco U., Dire quasi la stessa cosa. Esperienze di traduzione. Milano, Bompiani 2003

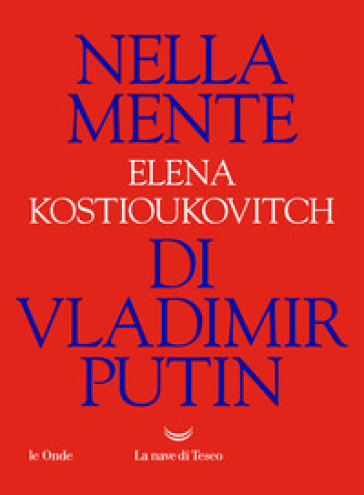
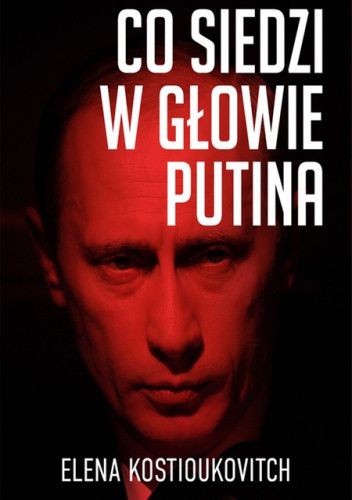

 0
0 1
1 2
2 3
3