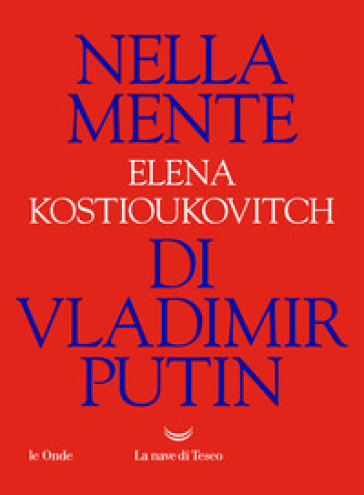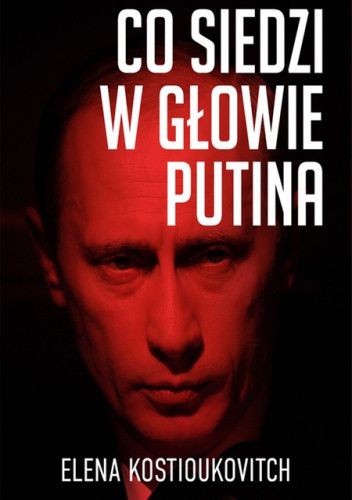MORAVIA, ALBERTO. 1934 Milano, Bompiani, 1982. 271 р.
Романы, написанные Моравиа в последнее десятилетие, составляют, судя по всему, своеобразную трилогию. Несхожие по тематике, они объединены на уровне композиции. Единый структурный принцип — бинарность — обнажен в заглавии первой из этих книг, "Я и он" (1973), и менее явно дан в заглавии второй, "Внутренняя жизнь" (1978), где "внутренняя" противопоставляется "внешней". Романный мир рвут надвое антагонистические ипостаси личности: в первом случае рациональное "я" героя спорит с "я" подсознательным, во втором — борется "цельная" героиня, террористка Дезидерия, с собственным "взбесившимся суперэго", как обрисовал этот конфликт сам Моравиа критику и писателю Нелло Айелло (материалы их бесед вышли в сборнике Айелло "Интервью с неудобным писателем", 1978).
Приверженность гегельянца Моравиа , к прямолинейным бинарным противопоставлениям обсуждалась столь часто, особенно после "Я и он", что выработался прочный стереотип восприятия его творчества и личности. Неудивительно, что Коппо Доменики на недавнем портрете изображает писателя "единым в двух лицах". Словно идя навстречу уже банализированному представлению, Моравиа вновь поднимает и синтезирует проблематику раздвоенности психики ("Я и он") и социальной личности ("Внутренняя жизнь") в романе 1982 года, удостоенном международной премии Монделло.
Конфликтующие противоположности у Моравиа — писателя ясного, грубоватого и схематичного, неисправимого моралиста — удерживаются в рамках единой системы всегда посредством насилия, ломки. В романе -"1934" Моравиа идет к обобщениям высшего порядка, нежели в предыдущих случаях: здесь он исследует не спонтанное насилие, губительное прежде всего для индивидуума, а механизм насилия перманентного, .глобального, губительного для всей цивилизации. Так выводится направляющая сил, не взрывающих общество (это тема предыдущих книг), а стабилизирующих его в формах тоталитарного режима.
Выбор темы закономерен. Нет вопроса более болезненного для современной итальянской интеллигенции. Экстремизм, нестабильность жизни и постоянная угроза новой фашизации общества все чаще возвращают итальянских писателей к анализу национал-социализма и фашизма, тоталитарного государства тридцатых годов. А тема сама указывает объект рассмотрения: в жесткую категориальную сетку романа Моравиа попадает "наиболее чистое" воплощение предвоенного фашизма — гитлеровская Германия в ее переломный момент, в год "ночи длинных ножей" и прихода Гитлера к полной государственной власти.
Чтоб обеспечить лабораторную чистоту своего опыта-исследования, Моравиа представляет Германию не в конкретно-историческом, детализированном, а в чисто символическом воплощении. Германия-страна ни разу не входит в мир романа. Место действия — Италия, остров Капри, пансионат для немецких туристов. Рассказчик—итальянец, внимательно разглядывающий Германию "извне". Во многом он напоминает портрет молодого Моравиа.
Впрочем, не вполне портрет: позиция этого наблюдателя не так уж безусловно соотносится со зрелой авторской позицией; тонкое мастерство (и в то же время, возможно, серьезный просчет) Моравиа сказалось в том, _что в математическую формулу романа подставлен этот вполне живом,, ко"понент. Лючио написан остраненно, как достоверный тип — слабый, крайне спиритуализированный, далекий от политики человек своей эпохи разочарованный, в высшей степени подверженный влияниям, повышенный интерес к Германии мотивирован его родом занятий: о" филолог-германис, адепт духовно-исторического направления в культурологии, и его задача, как он сам себе ее формулирует, — "постижение германского духа". Но для ученого Лючио слишком легко возбудим, изучение конкретики предмета слишком часто сменяется у него эмоциональным сопереживанием; так он, страстный читатель Гёте и переводчик адеиста, и заражается одной из двух, по Ницше, национальных немецких болезней — страстью к самоубийству.
Итак, повествователь еще до экспозиции собственно сюжета представлен как характер эпохи с исторически обусловленным набором клише сознания. Автор реконструирует этот тип мышления, замкнутого а кругу соответствующих культурных символов, из небольшого числа которых и строится основная антиномия романа. Этим обогащается, конкретизируется тема книги: анализ корней германского фашизма предвоенных лет дается не в абсолютно безусловном виде (тогда бы его поверхностность была просто возмутительной), а как отражение экстатически-кризисного сознания молодого современника-интеллектуала, его размышлений о. НаЦИ°*^ЬНой СУЩНОСТИ Германии, о невозможности жить в удушливой атмосфере крепнущего тоталитаризма, которая нависла уже и над его родной страной. Таким образом, "итальянский вопрос" занимает не меньше (если не больше) места в проблематике романа, чем "германский".
Раскручивая свой сюжет схему, автор настойчиво обращает наше внимание на то, что это именно схема, умственное построение. Иначе было бы необъяснимо, почему персонажи действуют столь ненатурально, изъясняются столь высокопарно и почему, скажем, герою удается загодя угадывать имена незнакомых людей, предвидеть их поступки. Все действие романа явно задумано как запись тяжелого сна героя, концентрирующего и структурирующего навязчивые мотивы его психики. (Любопытно, кстати, окажется ли состоятельной иная, реалистическая интерпретация сюжета — хотя бы та, что лежит в сценарной основе снимающегося сейчас фильма Бернардо Бертолуччи?).
...На Пароме, идущем с материка к острову Капри, герой встречает юную красавицу немку, чей облик выражает крайнюю степень отчаяния и тоски. Выражение ее лица ни разу не меняется на протяжении всех последующих дней, в течение которых герой не теряет надежды сблизиться с прекрасной незнакомкой. Но ее безотлучно охраняет потный краснолицый муж. Сходясь три раза в день за табльдотом, герои в загадочная Беата пожирают друг друга взглядами, исполненными смертной тоски. Постепенно завязывается диалог намеков, жестов, пометок на книжной странице. Наконец закладка, вложенная Беатой в книгу писем> Генриха фон Клейста, недвусмысленно дает понять герою главное условие их встречи и грядущей любви: Беата отметила в книге последнее письмо Клейста и Генриетты Фогель. Значит, первая же ночь любви должна будет завершиться двойным самоубийством.
Условие это, разумеется, крайне созвучно мыслям героя. Воля к. смерти становится в его глазах главным очарованием Беаты. И хотя его> порой озадачивает поведение возлюбленной, проявляющей то пылкую-любовь, то исполненную ужаса ненависть к властному и грубому мужу,, крупному фашистскому иерарху ("Он страшен! У него руки в крови!" — шепчет она герою), хотя ему не вполне ясно, что удерживает тонкую-артистку ц поэтессу Беату подле "этого скота", — все же он крайне изумлен, когда накануне решающей ночи Беата исчезает, а наутро в пансионе является как ни в чем не бывало... Она же? Нет, ее сестра-близнец. Труда, внешне неотличимая от Беаты, но по манерам и убеждениям полная ее противоположность: рьяная фашистка, фанатичная антисемитка, ненавидящая интеллектуалов, поглощенная исключительно интересами плоти, "телесного и духовного здоровья".
Сестры разнятся, как доктор Джекил и мистер Хайд, — правда, на сей раз у антиподов один и тот же физический облик. То же стройное тело, те же изумрудные глаза, но "маленькое чудовище" Труда отличается от сестры и гипертрофированной прожорливостью, и фантастическим сексуальным аппетитом, и ни с чем не сравнимой вульгарностью, и просто опасной преданностью фюреру. Все это, естественно, приводит в ужас героя, влюбленного в бесплотную интеллектуалку Беату. Довершает картину профессия Труды: оказывается, в Германии она дрессирует свирепых лагерных овчарок...
Так в романе дается нехитрая иллюстрация к распространенному представлению о двух ипостасях, двух началах германского духа: "...костыль Фридриха II , проверенное и зарекомендовавшее себя орудие прусского воспитания, и дорожная сумка с обломками экспонатов из Веймарского музея... Милитаризм и гуманизм, Фридрих II и Гёте, Потсдам и Веймар, Зигфрид и Фауст, казарма и музей, власть и дух — таков роковой симбиоз двух извечных начал германской истории..." ("История литературы ФРГ". М., 1980).
Но, задав эту антиномию как посылку, нужно же предложить какой-нибудь вывод, что-либо добавить к ней. И Моравиа вводит эффектный поворот действия, о котором, впрочем, читатель догадывается заблаговременно. В момент кульминации (а герой, невзирая на инстинктивное отвращение, все же поджидает ночью в своей комнате — на сей раз Труду) она, как прежде Беата, ускользает от героя, а ее спутница и наперсница, мужеподобная артистка Паула, открывает Лючио, что спи-ритуальная Беата и хищно-плотская Труда на самом деле один и тот же человек, "только иногда она надевает маску". Герой решает во что бы то ни стало уяснить, что же является подлинным обликом и что — маской: одухотворенная ли Беата прячется от ужасов реальной жизни под маской бездуховной Труды или все наоборот?
Прямого ответа он не получает, но этот ответ — в метафизическом плане — очевиден. Образ "светлой" Беаты представляет собой, по сути, нечто до такой степени болезненное, выморочное и неестественное, что ясно: оба лика Беаты-Труды равно ущербны и ущербно было бы их сочетание, слияние. Это и явствует из эпилога. "Подлинная" Беата-Труда — извращенное, нежизнеспособное создание — рабски связывает свою судьбу с судьбами нацистской партии. Несмотря на постоянное жонглирование идеей самоубийства, она осуществляет ее не раньше, чем становится известно о решительном и устрашающем историческом повороте, ознаменованном "ночью длинных ножей". Беата-Труда вовлекает в последнее предсмертное театральное действо и свою спутницу Паулу, с которой ее связывает противоестественная близость. Так самоубийство двух лицедеек травестирует романтический конец, к которому готовил себя переполненный отчаянием герой, Лючио. Проходят месяцы, и он, уже давно уехавший с-Капри, обнаруживает в старой книжке переписанное рукой своей призрачной возлюбленной последнее письмо Генриха фон Клейста.
Итак, Моравиа заявляет, что противопоставление "германского духа" ' и "германской бездуховности" — ложное противопоставление. Истина не на каком-либо из полюсов, и не посередине, а вовне. Ибо интеллектуализм, индивидуализм, свободолюбие становятся неполноценными в удушающих условиях формирующего личность режима; истинное соотношение ценностей утрачивается.
Скажем сразу, что этот вывод романа задолго до Моравиа был сформулирован германскими мыслителями, и в частности Томасом Манном (влияние которого на поэтику романа Моравиа вообще очень заметно) в речи "Германия и немцы" (1945):
"Нет двух Германий, доброй и злой, есть одна-единственная Германия, лучшие свойства которой под влиянием дьявольской хитрости превратились в олицетворение зла. Злая Германия — это и есть добрая, пошедшая по ложному пути, попавшая в беду, погрязшая в преступлениях и теперь стоящая перед катастрофой".
Что же может добавить Моравиа к давно известным, давно принявшим форму выводам? Он вводит в свой оперативный набор категорию романтического и рассматривает (далеко не впервые в истории культуры) роль немецкого романтизма, с одной стороны, в формировании националистической фашистской идеологии, а с другой — в создании культа гениальности и смерти; романтизм как предмет исследования присутствует и в густой фрейдистской проблематике романа. И здесь, надо сказать, Моравиа опять приходит к выводу, уже известному из Томаса Манна: "В определенном смысле психоанализ, то есть глубокий прорыв со стороны болезни в область знаний о человеке, также является порождением романтизма".
Две маргинальные фигуры на шахматной доске романа, два героя, к которым обращается Лючио как к якорю в критической ситуации, явно представляют собой олицетворенное опровержение романтической системы ценностей (гибельной, как доказывает автор). Старый богач-меценат Шапиро (некоторые черты его, очевидно, списаны с известного историка искусств Бернгарда Беренсона,; владельца виллы-музея Татти, секретарша которого Ники Мариано вполне могла быть отдаленным прототипом секретарши Шапиро Сони) во время единственной краткой встречи с Лючио предлагает ему парадоксальную жизненную программу: "Богатейте!" Бескорыстно стремящийся к прекрасному окажется на грани гибели. Лишь отрешившись от романтического и предавшись прагматическому, можно смирить самоубийственную тоску.
Соня, в прошлом русская террористка-эсерка, подруга легендарного Евно Азефа, "шпика и революционера, раба и властелина, садиста и мазохиста в одном лице", как бы перешла в роман "1934" из предыдущей книги Моравиа; с ней связана та же проблематика мучительной, раздвоенности, что окружает Дезидерию во "Внутренней жизни": "...до тех пор мне казалось, что мир разделен между богом и дьяволом. Богом была революция, а дьяволом — буржуазия. А затем я ощутила вдруг, что мир раскололся совсем по-другому: с одной стороны — буржуазия и революция, а с другой — я и подобные мне..."
Соня — это Дезидерия после краха, пусть сломленная, пусть ничтожная, но отказавшаяся уже от чудовищных "бинарных оппозиций". Она сомнительная опора в критической ситуации, как и профессор Шапиро, и автор вряд ли стремится представить их путь как путь спасения; образы Сони и профессора, скорее всего, были нужны, чтобы ярче выделить основную линию идейного напряжения.
Вполне ясно, зачем понадобились Моравиа такие персонажи, как Шапиро и Соня. Они — лишь пункты в его симметричной схеме. Но читателю, который увереннее, чем автор, разбирается в конкретном историческом материале, покажется более чём странной его трактовка некоторых аспектов истории русского революционного движения. Здесь ярче всего видно, как вредит прямолинейный схематизм исторической правде.
Построение этого романа, пожалуй, не более схематично и общо, чем структуры предыдущих книг Моравиа. Однако "1934" оставляет более сильное ощущение неудовлетворенности, неудачи большого мастера. Можно ли все отнести за счет безнадежной вторичности его концепции? Трудно сказать. Но в любом случае следует вновь обратиться за объяснением к словам Томаса Манна, столь во многом определившего понятийную систему Моравиа:
"Германия и немцы — такова тема моей сегодняшней беседы с вами... Говорить об этом sine ira et studio с чисто психологической точки зрения может показаться аморальным перед лицом тех невыразимых страданий, которые принес миру этот злополучный народ..."
Не так плохи схемы Моравиа сами по себе, как плохо, когда в эти схемы пытаются втиснуть доселе кровоточащий исторический материал. Плохо, что у читателя романа "1934" получается "ум с сердцем не в ладу"...